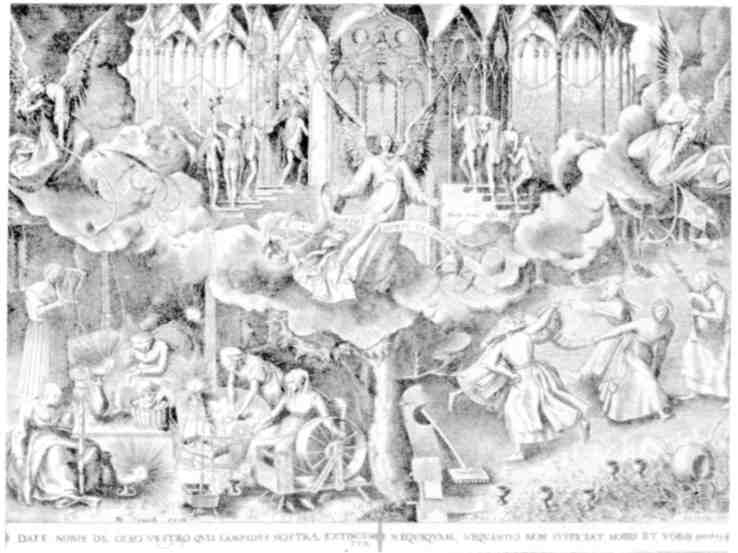|
||||
|
|
III ШОНГАУЭР И НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬIТочно так же, как если бы кто-нибудь, излагая духовную историю греков, не принял во внимание греческую трагедию, было бы неполным историческое изображение немецкого искусства, в котором одна из важнейших глав не была бы посвящена немецкой графике. В каждом учебнике, пожалуй, можно прочесть, что предпочтение гравюры на дереве и меди являлось характернейшей чертой немецкого искусства XV в.; однако, обычно оставляется без внимания то обстоятельство, что в графике нашли свое чистейшее и замечательнейшее выражение все художественные изыскания и вся индивидуальная тоска немцев предшествующего Реформации столетия, что благодаря этому для искусства открылись новые пути и реализовались новые художественные ценности, которые имели огромное значение для всего европейского художественного развития. Это опущение обусловлено главным образом тремя причинами. Во-первых, узкой специализацией большинства знатоков гравюры на дереве и меди, во-вторых, критерием натурализма, с которым до сих пор, как правило, подходят к оценке немецкой графики XV столетия, и, наконец, всеобщей склонностью представлять немецкое искусство как зависимое в основном от чужих образцов. Больше, чем от чего бы то ни было, я далек от отрицания в нем рецептивных периодов; однако они чередуются с временами, когда немецкое искусство было самостоятельным, было наполнено большой внутренней силой, творческой в полном значении этого слова —и вот из этого-то творческого богатства развилась и немецкая графика. Развилась впервые не во времена Дюрера и Гольбейна, но уже в своих «примитивных» зачатках. Мы сейчас далеки от того, чтобы определять возникновение новой ветви искусства, нового художественного языка случайными открытиями или побуждениями технического порядка. Всегда и везде духовная потребность является первоисточником — в искусстве и всюду в истории духовной эволюции человечества. И это соотношение выступает отчетливо при возникновении немецкого искусства ксилографии. У ее колыбели находим мы в германских землях, и сильнее всего в самой Германии, духовное движение, которое можно обозначить как призыв к воспитанию души. Он раздается громко уже в писаниях немецких мистиков XIV в.: понятия и учение, интеллектуальные и исторические доказательства — это лишь «весьма слабые костыли» на тернистом пути истинной христианской жизни. То, к чему он приводит, это — внутреннее созерцание, замещающее произносимую вслух молитву. Церковь с ее литургиями и статуями, священной историей в красках и увещеваниями, перестает играть роль единственного центра религиозной жизни: в каждом отдельном человеческом сердце должна была возникнуть церковь, богатая образами и наполненная внутренними переживаниями. Слова, отчеканенные мистиками, являются эхом всеобщей перемены, которая произошла в немецкой религиозной жизни и результатом которой явилась всеобщая потребность в индивидуальном религиозном образовании и самоуглублении. На эту потребность откликнулось и искусство, сделавшее «дешевыми» и доступными всем и каждому образные представления посредством массового их распространения. Стиль наиболее ранних гравюр на дереве этому вполне соответствует. Он основывался на готических традициях, и при поверхностном рассмотрении можно было легко поверить, что он являлся не больше, чем запоздалым отражением живописи XIV столетия, настолько он наивен, неуклюж и не затронут новыми проблемами и достижениями современного ему западного и южного искусства. Но эта примитивность не может быть объяснена народным характером старейших гравюр на дереве, доказательством чего является вся живопись первой половины XV в. Эта живопись была во всех своих областях «запоздалой» и все еще опиралась на идеализм Джотто в эпоху, когда в Италии и Нидерландах он давно уже был преодолен. И так как эта отсталость являлась всеобщим признаком живописи первой половины немецкого кватроченто, возникает вопрос, не сохранилось ли наравне со старым направлением другое, отличное от итальянского и нидерландского, понимание искусства? Я возьму два примера из Нюрнберга, где развитие можно проследить особенно отчетливо. Главное произведение первой четверти столетия, алтарь Имгоффа, еще всецело основывается на том сочетании североготическнх элементов с джоттовскими, которое в живописи второй половины XIV в. образовывалось всюду на севере от Альп. Это сочетание осталось в основном в пределах готической абстракции: перед нами — золотой фон, еще не замененный натуралистической передачей пространства, простое наличие рядов, как важнейший завет готической композиционной манеры, идеализированные фигуры и готически взметенные выразительные линии. К этому присоединялись итальянские воздействия в виде навеянных влиянием Джотто или живописи Сиены голов, как олицетворения новой (также материально идеальной) красоты, новая ритмичность в построении картины, пластическая округленность и увесистость фигур и стремление к радостно светящемуся, возвышенному воздействию красок. В начале XV столетия подобным же образом писали не только в Германии, но всюду, где царило западное искусство. Однако в то время как в Италии и на западе во втором и третьем десятилетиях этот стиль был полностью преодолен, в Германии он сохранился в своем дальнейшем развитии до середины столетия, что дает нам право противопоставить немецкую живопись этого периода итальянской и нидерландской, как вполне самостоятельную и значительную область. В большом алтаре Тухера следы прежних итальянских влияний заметны лишь едва. Дальнейшее формирование стиля Джотто пошло здесь совсем другим путем, чем в Италии. Особенно ясно выявлено это в изображении пространства, которое в Италии все больше связывается основоположниками Ренессанса со стремлением к убедительной реконструкции реальных взаимоотношений, тогда как Германия как будто все больше от этого отходит. В алтаре Имгоффа во всяком случае намечена пространственная глубина; в алтаре Тухера она совершенно отсутствует. Фон здесь дан совершенно ирреально. Это — старый золотой фон, который не является, однако, мертвой, гладкой или нейтрально-спокойной узорчатой плоскостью, а преисполнен приподнятой фантастично-неправдоподобной жизни. Плоскость фона покрыта растительным орнаментом, утратившим как натуралистическую вегетативность трактовки XIII в., так и архитектонично-закономерный, антикизированный характер. Он здесь становится почти до жути живым, сплетаясь как змеи в сумятицу линий, которую трудно разобрать, и которая, как пламя, стремится в высь, как бы в высшие сферы, где эта страстная динамика переходит в нежную музыку позднеготического, архитектоничного и все же бесплотного движения. Этому лишенному материальности способу выражения противостоят фигуры — тяжелые, массивные, замкнутые и компактно-пластичные. Как существенно отличаются они от современных им итальянских или нидерландских фигур! От первых они отличаются полнейшим отсутствием интереса к подробной и правдивой передаче натуры, от вторых — своим замыслом. В задачу немецкого художника не входили передача или художественное усиление природной игры сил, не занимал его также наглядный показ функций телесного организма — его задачей являлось лишь подчеркивание массивно-телесного и субстанционально-реального в противоположность чисто духовному. Закономерное построение и формальная красота не играют здесь никакой роли, столь же мало внимания уделяется созданию близкого портретному выражения лиц. Тяжеловесный, плохо расчлененный, застывший и в положении и в движении (изображение последнего ограничивается немногими неповоротливыми линиями и пастозными цветными плоскостями) человек — как смертная ограниченная изменчивая материя, как второстепенная и подчиненная высшему оболочка — противопоставлен выражению душевных порывов. На почве этого противопоставления развивается своеобразный меланхоличный реализм немецкой живописи первой половины XV в., в основе отличающийся от современного нидерландского натурализма и итальянского эмпиризма. Как на сцене, где разыгрываются мистерии, выступают (например, у Мейстера Франке, у Лукаса Мозера, Мульчера и многих других) наравне с идеальными фигурами такие, которые находятся в резком противоречии с какой бы то ни было идеализацией: представители темных гибельных сил земного бытия и носителя человеческих преступлений, грехов и страстей — тусклая и слепая масса, с которой надлежит бороться высшим силам; все это первый шаг к новому обоснованию трагедии человеческой индивидуальности и судьбы, для которой не было места в рамках средневекового антиреализма. Всегда и везде, однако, все земное: бытие, все человеческие ощущения, желания и поступки являются как бы скованными и преисполненными гнетущей тяжести, в которой отражается низшая форма жизненного существования. Телесное не является равноценным духовному, как в аналогичном по времени итальянском искусстве, но возникает, как преодолеваемая им сфера сопротивления. Это полярное противопоставление телесного чисто духовному приводит иногда — наиболее гениально у Вица — к монументальной тяжести, напоминающей аморфные массы романской архитектуры, к нерасчлененным глыбообразным символам материи, из которой духовное прорывается лишь с мучительным трудом, для того чтобы, освободившись все же в конце концов от уз преходящей действительности, в высшей полярности наполнить другую, более высокую сферу своей (противопоставленной всякой тяжести и связанности) динамикой. Независимое от изображенного земного бытия и действия, это искусство намечает свою высшую форму выявления, связует, поднимаясь над всем индивидуальным, фигуры во вневременном духовном единении и настроении и звучит, как звон из других миров; так же, как и возвышающиеся над всем реальным и вещественным красота и познание звучат для созерцателя в обусловленных идеалом формах, линиях, красках, светотени, звучат в изображении природы и человека, а также в игре воображения. Все это имеет свои корни в средневековье, но вместе с тем означает новый этап средневекового идеализма, представляющий собой принципиальный шаг вперед. Источником его было то же стремление к более глубокой связи искусства с субъективным переживанием окружающего, которое лежало в основе развития современного нидерландского и итальянского искусства. Только дороги здесь были различны. В Италии и Нидерландах перемена, — приблизившая искусство к людям, — осуществилась главным образом в области нового светского понимания природы, которая открылась искусству чувственным путем, через наблюдение ее неисчерпаемого многообразия и через познание ее естественных закономерностей, от которых зависит все материальное. В Германии, где религиозное мышление вплоть до Реформации сохранило свою руководящую роль также и в искусстве, искали, напротив, этого очеловечения искусства в пределах его старорелигиозной сверхъестественной обусловленности. Новое начало, характеризующее немецкое искусство XV столетия, состояло в отказе от отражения догматически данной абсолютной истины, стоящей в виде крепко спаянной мощной системы духовных ценностей над чувственным опытом и земным бытием, как это было свойственно готике XUI и XIV столетий. Центр тяжести перенесен был на субъективное размышление и ощущение, посредством которых надлежало, преодолев материю, достигнуть внутренней просветленности и абсолютной духовности. Поэтому немцам было безразлично, какими являются вещи в их естественной обусловленности, и убедительная сила объективной передачи для них не имела значения. Решающими являлись лишь общение духовного с духовным и выходящие за пределы чувственных форм смысл и цель изображения, которое должно было сообщить людям в первую очередь внутреннее углубление и духовные ценности. Внутреннему переживанию соответствует здесь степень верности в изображении природы при напряженном стремлении от наиболее реального к самому ирреальному, так что вместо закономерности итальянцев и нидерландской зависимости от натуры в немецком искусстве первой половины XV в. в выборе средств выражения царила значительно большая свобода,которой может быть объяснено и кажущееся расщепление на независимые друг от друга школы и индивидуальности. Однако именно эта свобода вела к удивительной точности и лаконичности художественного выражения; благодаря этим его свойствам, взятым в качестве критерия, немецкая живопись первой половины XV в. представляется воплощением своеобразного и высокого развитого стиля. К его лучшим произведениям относятся инкунабулы деревянной гравюры. Скорее поощряемые, нежели задерживаемые еще несовершенной техникою, их анонимные родоначальники, даже больше, чем современные им немецкие живописцы, сосредоточили свое внимание на том, в чем состояла главнейшая задача немецкого искусства, и создавали такие художественные произведения, которые, правда, в области подражания натуре и решения формальных проблем далеко отставали от произведений современной им нидерландской и итальянской живописи, но в которых тем непосредственней и проникновенней, часто в захватывающей чистоте, каждому был указан путь к внутреннему созиданию. II Своеобразие развития немецкой живописи XV столетия было прервано нидерландскими влияниями. И снова было ошибкой со стороны односторонней точки зрения на развитие искусства, как на постепенное приближение к натурализму, считать, что воздействие Нидерландов осуществлялось в постепенном приближении немецкой живописи к западным достижениям натуралистического характера. Правда, отдельные элементы новой нидерландской живописи еще и раньше проникали в Германию, особенно в западную, однако они всегда оставались второстепенными по отношению к специфически немецким художественным установкам, и только в пятидесятых годах нидерландское влияние стало решающим, определив новое направление немецкой живописи, подобно тому как в восьмидесятых годах XIX столетия романтическая и академическая живопись в Германии подвергалась натиску французского импрессионизма; происходило это не постепенно, но путем внезапно возникшей оппозиции молодежи по отношению к старикам, и носители этой оппозиции вполне сознательно противопоставляли свое искусство обусловленному традицией искусству предшествующего поколения. Точно так же в середине столетия молодые немецкие живописцы получали свое художественное образование непосредственно и косвенно с запада и переносили изученное в Германию. Отличием их от художников старшего поколения являлся их не постепенный, а принципиальный натурализм; искусство первой половины немецкого кватроченто (в основном не натуралистическое) сменилось художественным убеждением, считавшим честную передачу действительности важнейшей задачей художественной практики. Обратимся к Нюрнбергу. Главою нового стиля являлся сам Иоганн[99] Плейденвурф, который переселился в расцветший город в 1457 г., на два года позже, чем отец Дюрера, и пришел, может быть, как и тот, от «великих мастеров» с территории нидерландских образцов сильнее, чем его портрет каноника Шенборна. Точный — вплоть до тончайшей морщинки — рисунок головы, передача материи в трактовке одежды, изображенная в виде натюрморта книга в руках портретируемого — все это напоминает о нидерландских портретах так же, как и основная установка, поднявшая изучение натуры до исходного пункта живописного изображения. И подобно тому, как в портрете каноника Шенборна наличествует правдивая передача индивидуальных черт, в алтарных образах того же Плейденвурфа мы находим сменившее прежний золотой фон детальное изображение внутреннего пространства, трактованного не в качестве простого обрамления фигур, как это иногда имело место и раньше, но как равноценный фигурам изобразительный мотив, выполненный с величайшей любовью и верностью в передаче натуры, как портрет определенного пространства. Сказанное применимо также по отношению к пейзажу, который, правда, не вполне отсутствовал и в предшествующем направлении, но являлся больше общим композиционным элементом, чем точной передачей природы. Теперь пейзаж сводится к хронике того, что видит глаз, вплоть до самого горизонта, как это имеет место, например, в мюнхенском распятии. Правда, в фигурах видны еще пережитки старого идеализма, но уже здесь стиль меняется; широкие линии, большие плоскости и мощно сконструированные фигуры заменены детальными этюдами с натуры и, что особенно важно, изменилось также духовное содержание картины. Господство внутреннего над чувственным восприятием действительности исчезает, и в изображении психических моментов художник ограничивается передачей конкретных ощущений. То, чему учит нас нюрнбергский живописец, находим мы всюду в немецкой живописи. В Швабии и на берегах Рейна, в севернонемецкой живописи, так же как в Эльзасе или на немецком востоке, всюду больше или меньше видно наличие первой большой волны нидерландских влияний, так что в течение долгого времени казалось, будто немецкая живопись была полностью выкорчевана и находилась на пути к тому, чтобы сделаться ответвлением нидерландского искусства. Если же проследить это первое нидерландское течение, проникшее в Германию, то внезапно делается очевидным, что оно очень быстро начинает как бы всасываться в песок. Заимствованные у старонидерландских образцов задачи, композиционные схемы и формы, правда, варьируются и сочетаются различным образом, но развиваются незначительно. Это снова и снова все те же — напоминающие главным образом фламандских мастеров Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса и Флемальского мастера — подражания, которыми обходятся без существенного продвижения вперед. Немецкие мастера, на произведениях которых не лежал отпечаток большого мастерства, как в Нидерландах, и которые должны были изготовлять свою продукцию чуть ли не фабричным путем для повсеместного удовлетворения запросов церкви, превращали в малоподвижный провинциализм то, что вдохновенными адептами нового направления принесено было с запада в качестве нового евангелия. Чувственный натурализм Нидерландов, зачеркивающий природу ради чисто внешнего художественного воздействия и рассматривающий точность в ее изображении в первую очередь как внутрихудожественную проблему, как проблему художественного «как», не смог тогда, очевидно, пустить более глубоких корней в Германии, где, как уже было подчеркнуто и дальше будет выявлено, искусство осталось прежде всего средством всеобщего духовного обучения и образования и все больше развивалось именно по этой линии. В этом направлении нидерландские влияния сыграли гораздо большую роль, чем в области чисто формальной. Это объясняется тем, что они совпали с новым этапом развития немецкой духовной жизни, который можно обозначить как расширение кругозора по линии приятия вещей светского характера. Для того, чтобы это стало понятным, нужно углубиться несколько дальше. Рассматривая историю христианского мира в ее совокупности, мы видим, что она отчетливо распадается на два основных периода своего развития. Они не разделены определенным событием резко друг от друга и не совпадают по времени у отдельных европейских народов. Первый период длится в своих последних разветвлениях, продолжая свое развитие, вплоть до середины XV столетия (отголоски его появлялись и позднее); зачатки второго периода заложены в позднем средневековье. Он продолжается вплоть до современности и как будто торопится к своему концу. В течение первого периода люди искали смысла и последней цели своего земного бытия в потустороннем, тогда как для второго характерно то, что вера в это сверхземное предназначение человечества все больше тускнеет благодаря стремлению к земным благам и вытекающей отсюда концентрации человеческого духа на вопросах, проблемах и усилиях, связанных с дальнейшим поощрением светского гедонизма. Это новое духовное направление человечества вело к новым формам, напряжениям и, наконец, катастрофам в хозяйственной и социальной жизни, к мировой торговле, капитализму, национализму и к империализму; в области же духовной продукции — к господству естественных наук и невероятным техническим изобретениям, которые — чем дальше, тем больше, — рассматривались в качестве показателя степени человеческого прогресса, так что этот период в целом позволительно было бы в будущем назвать естественно-научной и технической эпохой. Однако полное убеждение в необходимости и осчастливливающей силе художественного, научного и механического преодоления природы в целях возможно большего повышения всех внешних условий жизни проникло в официальную и частную жизнь и овладело господствующими над людьми интересами лишь постепенно. Однако прежде, чем это убеждение стало единой отличительной чертой всей европейской культуры и преобразило ее во всех принципах и взаимосвязях, благодаря в целом единому духовному перевороту, в разной форме произошедшему в культуре ведущих народов Западной Европы, утвердилось новое понимание мира и человека. Италия, опираясь на античное наследство, шла впереди в основании искусства, противопоставлявшего старой, устремленной к потусторонности, духовной общности средневекового христианства естественную жизненную закономерность и гармонию, а также новое познание мира, основанное на наблюдении физических причин и взаимозависимостей. Это вело, с одной стороны, к новому, независящему от религиозной надземности пониманию красоты и монументальности, а с другой — к созданию того плодотворного духа исканий, без которого быстрое развитие современных естественно-научных знаний и технического мастерства было бы невозможным. Превращение духовных интересов в светские шло в западноевропейской культуре главным образом по линии постепенного преобразования философского и теоретически-научного мышления, стремившегося к индукции, все более расширяющейся, и по пути безудержного наблюдения, которое с начала XV столетия приобрело значение также и в области живописного изображения природы. Натурализм и связанные с ним в рамках искусства задачи приобрели такую высокую оценку, какой они до этого в течение всей эволюции искусства никогда не имели; уничтожив границы, поставленные до тех пор перед искусством, они явились исходным пунктом нового художественного открытия видимого мира в его неисчерпаемом предметном и формальном богатстве. И в этом также содержалось быстрое отступление от потустороннего и потеря себя в том, что предлагалось природным окружением для удовлетворения потребности человека в знании и наслаждении. А Германия? Принимала ли она участие в этом преобразовании европейской духовной жизни? Полагаю, что это участие являлось большим и особенно важным. Мы уже знаем, каким образом развилось в Германии новое стремление к религиозному образованию, благодаря которому то, что являлось прежде церковно-догматическим таинством, должно было глубже внедриться в знание и душевное переживание всех людей. Это уже являлось шагом к «упрощению» комплексов чувств и мыслей, раньше главенствовавших над людьми. Знание есть сила — эта антично-риторическая мысль, связанная с представлением об обогащении индивидуального бытия, овладела духовной жизнью целой нации и наполнила ее лихорадочным стремлением к духовным ценностям — прежде всего к религиозным, — но вскоре, однако, в связи со всеобщим ростом омирщения духовных интересов — к духовным ценностям вообще! Из стремления к религиозному возникло сильное стремление к образованию вообще, ко всему, что могло расширить кругозор и предоставить миру чувств и фантазии новую пищу. Средневековые литература и наука являлись исключительными, т. е. были предназначены только для определенных профессий, сословий или кругов, а потому могли довольствоваться книгой, написанной от руки. Новая всеобщая потребность в литературном образовании повлекла за собой механическое размножение печатной продукции. Отсюда оставался только шаг к возникшему из аналогичной потребности размножению материала изобразительного. Так, из нового духовного направления в Германии вырастает наиболее характерный для этого отрезка времени во всей духовной истории человечества технический прием, подобно тому, как из новых художественных воззрений Италии возникли основы анатомии или базирующиеся на статических, оптических и других законах новые изобретения. При этом печатное слово отнюдь не оставляло в тени печатного изображения. Уже тот факт, что последнему принадлежит первенство по времени, доказывает, что изобразительный материал являлся не менее значительным средством массовой эрудиции, чем словесный. Благодаря расширению интересов по линии образования печатное изображение также приобрело для себя новые области, как это показывает сравнение новых печатных иллюстраций с первоисточниками искусства ксилографии. Пусть вначале печатное изображение примыкало к старым рукописным изобразительным сериям — все же чрезвычайно существенным является тот факт, что огромное количество образных представлений, в несравненно большей степени, чем прежде, сделалось всеобщим духовным достоянием, и что стремление ко всеобщему образному обучению переросло в стремление ко всеобщему художественному видению. Его возникновению способствовали достижения нидерландских живописцев в области натурализма, открывшие для немецкой иллюстрации с новой для нее реальной убедительностью все предметное богатство природы и жизни. Благодаря этому чрезвычайно увеличилась радость от изобразительного рассказа и повествования, и вскоре всюду в иллюстрациях к поэтическим, историческим, религиозным, географическим или энциклопедическим трудам появляются новые темы изображений и множество новых художественных изобретений, как будто в Германии мощь фантазии внезапно обрела крылья и решила в течение немногих лет догнать то, чем западное искусство давно уже в полной мере обладало в области рукописной иллюстрации, которая непосредственно или косвенно, но многосторонне влияла на немецкие печатные изобразительные серии. Однако здесь отнюдь не имеет места лишь простое подражание. До сих пор взаимоотношения между литературой и искусством были чрезвычайно сложными. Новые образные представления, возникавшие в поэзии или историческом исследовании, в трудах научного или дидактического характера, лишь кружным путем попадали во всеобщий художественный обиход. То, что являлось совместным творчеством писателей, рисовальщиков и издателей, было предусмотрено как единство, рассчитанное на то, чтобы посредством печатного слова и образа воздействовать на всеобщее духовное сознание все более широких масс. Это, однако, представляло' собою нечто совсем другое, чем создавшиеся под влиянием Нидерландов шаблоны в области церковной живописи. Это было новое, радостное, смотрящее вперед искусство, больше того — новое средство всеобщего духовного воздействия, олицетворение большого духовного движения, воодушевившего художественную молодежь, которая не хотела довольствоваться кустарничеством в своей профессии и придавала новый смысл заимствованным у Нидерландов стилистическим элементам. Это искусство быстро выросло за пределы чисто формальной постановки проблемы. Вопрос теперь заключался не только в том, как надо изобразить тот или иной предмет, ту или иную фигуру, сочетание фигур и пространства, чтобы передача действовала на зрителя правдиво и убедительно, как сама действительность; это новое художественное видение было связано со всей совокупностью духовных интересов, являясь средством для их расширения и углубления. Таким образом, оно — мало-помалу превышая понятие новой художественной истины — стало выражением нового знания, нового мира фантазии, нового мира идей, нового образования, другими словами — нового всеобщего взгляда на мир. В этом последнем нидерландский натурализм был не самоцелью, а только средством к цели, и поэтому также не единственным языком искусства, как в Нидерландах; он должен был делить свое влияние с другими средствами выражения, к которым мы еще вернемся. В пределах этой насыщенности нидерландским восприятием природы, характеризовавшей немецкую живопись, имеются своеобразные художественные проявления, одно из которых заслуживает особенного внимания. Это — развитие немецкой гравюры на меди. Не отличаясь существенным образом в своих начинаниях от гравюры на дереве, резцовая гравюра постепенно отделяется от нее все больше и больше, развиваясь по линии приближения к нидерландской живописи, передача преимуществ которой в ксилографической технике была трудно осуществима. Трудность заключалась главным образом в передаче тонкостей моделировки, разнообразия трактовки материала и атмосферы и почти неисчерпаемого богатства красок. Достижение этих особенностей было до известной степени легче в гравюре на меди, однако они должны были быть получены самостоятельно, поскольку здесь имело место не просто подражание, как в одновременной станковой живописи, но перенесение на язык черного и белого того, что открылось немецкому искусству благодаря его новому — даже в области формальной более глубокому — отношению к нидерландскому искусству. Посмотрим на творчество Мастера E. S., венчающее первый период гравюры на меди. Обогащение изобразительного материала, разнообразие в трактовке, основанной на новом, более свободном переживании окружающего, — все это не отличает его от других современных ему немецких художников, и так же, как и у них, его композиции уводят назад, к нидерландским образцам. Ко всему этому, однако, присоединяется и нечто другое: усилия, направленные к тому, чтобы, исходя из основных элементов живописной передачи действительности, свойственной Нидерландам, и базируясь на них, по-новому преодолеть разнообразнейший изобразительный материал. Правда, его творениям еще не хватает проникновенной натуралистической тоновости и красочности позднейших немецких гравюр на меди, но в отдельных фигурах и формах, а также в передаче пространственного воздействия он находит и прокладывает новые художественные пути, являясь не только выполнителем задач, поставленных нидерландской живописью, не только творящим из нее и перенимающим ее восприятие реальности природы, но и старающимся самостоятельно пройти тот путь, который она проделала. С каждой новой гравюрой его рисунок все больше соответствует задачам нидерландского наблюдения природы, все больше постигает возможность следовать тончайшим изгибам формы в моделировке, разграничивать глубину посредством светлых и затененных плоскостей и превращать в новую художественную находку то, что для большинства его немецких современников было выученным языком. IIIНа этом фундаменте продолжает строить Шонгауэр. Можно проследить любопытную эволюцию ero взаимоотношений с нидерландским искусством. Прежде всего, следует сказать несколько слов относительно хронологии его работ. Датирование произведений Шонгауэра представляло для исследователей чрезвычайные трудности, поскольку внешние данные для этого почти совсем отсутствуют. Попытки разрешения задачи с непригодными средствами скорее увеличили, чем уменьшили эти трудности. Помощь, оказанная расположением его гравюр в относительной временной последовательности на основании технических особенностей или определенной формы монограммы, должна была оставаться сомнительной, даже, как показало дальнейшее, вводящей в заблуждение, пока для подтверждения этой последовательности не было найдено более веских доказательств. В этом комплексе вопросов, так же как и во многих других случаях, Фридлендер установил ясную правильную точку зрения, указав в короткой и все же содержательной статье, что эти доказательства нужно искать и найти в общем развитии стиля графического искусства Шонгауэра[100] . Однако по этому, безусловно единственно верному пути можно, я думаю, идти и прийти еще дальше, если поближе рассмотреть соотношение между достижениями в работах Шонгауэра и теми внешними импульсами, которые могли иметь место в его творчестве. Прежде всего следует указать на группу гравюр на меди, которая стилистически настолько близка к предыдущему искусству, что не может быть отнесена к периоду зрелого творчества Шонгауэра, несмотря на то, что она обозначена монограммой, считающейся соответствующей второму периоду его творчества. К этой группе относится прежде всего «Спаситель на троне» В. 70)[101], «Христос, благословляющий Марию» (В. 71) и «Венчание Богоматери» (В. 72); устаревшая композиция и трактовка формы в этих произведениях вызывают предположение, что это ранние работы Шонгауэра. К ним примыкают следующие листы: «св. Варвара» (В. 63), «св. Екатерина» (В. 64), «Мудрые и неразумные девы» (В. 77 до 86) и «Большое распятие» (В. 25). Эти работы преисполнены влиянием устаревшего уже в то время в Нидерландах стиля, следы которого встречаются в предшествовавшей Шонгауэру живописи и в особенности в немецкой графике, являясь отражением первой волны нидерландских воздействий. Об этом свидетельствует характер линий, взметенных на готический манер и не зависящих от устойчивости фигур. Этот стиль мог быть воспринят Шонгауэром у Мастера E. S. B некоторых из этих гравюр, как, например, «в Большом распятии», может быть замечено влияние Рогира ван дер Вейдена и его школы, выходящее за пределы таких общих элементов. В данном листе изображение распятого, мадонны и пейзажа напоминает поздний стиль брюссельского живописца. За этим направлением следует второе, установившееся в нидерландской живописи после смерти Рогира ван дер Вейдена и носящее в себе признаки некоторого прогресса. К этому направлению относятся в первую очередь те гравюры на меди, которые связаны с кольмарской «Мадонной в беседке из роз», как, например, «Мадонна с попугаем» (В. 29). Композиция здесь покоится на старых традициях, но выполнение его элементов соответствует установке, новой и для Нидерландов. В свободном разрешении пространства, в естественном взаимоотношении между фигурами и их архитектоническим обрамлением, в весомом треугольнике фигурной композиции, простирающемся до краев изображения, в оживленном движении Иисуса, являющегося уже не беспомощным грудным младенцем, но играющим маленьким мальчиком с более зрелым телосложением, — во всем этом выступают новшества, характерные для южнонидерландской живописи шестидесятых и семидесятых годов и частично уводящие к поздним работам Дирка Боутса и его школы, прежде всего ко вновь расцветшей школе в Брюгге, центром которой являлся молодой Мемлинг. Сопоставление изображений богоматери у Шонгауэра с аналогичными фламандскими того же времени вполне доказывает их взаимную связь, причем при установлении первоисточника могли бы возникнуть сомнения. Ведь дело теперь уж не сводится только к заимствованию, которое немецкий художник ищет в Нидерландах, превосходящих его в области передачи действительности, — речь идет о стимулах, движущих немецким художником, в результате чего получается продукция, равноценная нидерландской и в свою очередь на нее воздействующая, не говоря уже о том, что Шонгауэр в сопоставлении с Мемлингом является несравненно более значительным художником. Однако во Фландрии упомянутые новшества органически связаны с предыдущим периодом развития, откуда их и можно вывести шаг за шагом. Тот факт, что они совпадают по времени с соответствующими новшествами Шонгауэра, говорит о том, что последний в начале семидесятых годов был во Фландрии, где он, как пятьдесят лет спустя Дюрер, посетил наиболее видных художников и с живейшим участием следил за всем, что в качестве нового противопоставлялось ими более раннему нидерландскому искусству. В подтверждение этого предположения можно привести еще два момента. «Мадонна в беседке из роз» написана не так, как одновременные ей немецкие станковые картины. Она отличается от них более богатой палитрой, более тонкими переходами тонов и легким, плавным нанесением краски. Еще определеннее, чем в репрезентативной картине, в выполнении которой, должно быть, участвовали также и ученики, выявляется эта ненемецкая живописная манера в маленьких работах Шонгауэра, написанных так, как это сделал бы нидерландец, что опять-таки свидетельствует о том, что Шонгауэр пробыл некоторое время в Нидерландах. Одна из этих вещиц, «Рождество Христово» (Мюнхен), возможно, была сделана во время нидерландской поездки. Облик мадонны и младенца Христа дан почти таким же, как в первой группе работ Шонгауэра и как в произведениях Мастера E. S.; все же остальное, как, например, фигура святого Иосифа, широко написанный пейзаж, резкие контрасты между светом и тенью, теснейшим образом связано с фламандской живописью около 1470 г. Таким образом, эта картина является мостом между первой и второй группами его работ, на что указывает также ее совпадение с «Мадонной на зеленой скамье» (В. 30), относящейся, несомненно, к более позднему времени. Побуждение к тому, чтобы написать небольшой молитвенный образ, могло возникнуть у Шонгауэра в нидерландских мастерских, поскольку в Нидерландах такого рода живопись со времени Яна ван Эйка являлась свидетельством индивидуального умения и была широко распространена, а в Германии до этого времени не была обычной. И эту небольшую икону Шонгауэр написал так, как написали бы ее сами нидерландские художники. К этому присоединяется, однако, и нечто другое: возникающее влияние Рогира ван дер Вейдена. Имя этого художника упоминалось тогда, когда шла речь об отношении Шонгауэра к нидерландскому искусству. Многое напоминает о нем в работах кольмарского художника, что и дало повод уже в свое время Ламберту Ломбарду назвать Шонгауэра учеником Рогира ван дер Вейдена. Однако необходимо помнить о том, что влияние стиля Рогира ван дер Вейдена, уже начиная с середины XV столетия, было в Германии сильнее какого-либо другого нидерландского влияния; элементы этого стиля, многообразно переработанные, были в молодости Шонгауэра уже всеобщим достоянием, которым воспользовался и он. В большом «Поклонении волхвов» (В. 6), напротив, выявляется более близкое индивидуальное отношение к определенной картине Рогира ван дер Вейдена. Эта гравюра является не только membra disjecta[102] его стиля, но и гениальной вариацией «алтаря Колумбы», мощное впечатление от которого Шонгауэр перенес в свое произведение. Источник этого впечатления следует искать в самом оригинале Рогира ван дер Вейдена, который Шонгауэр мог видеть в Нидерландах или в Кельне. О том, что эта гравюра на меди должна быть присоединена к вышеупомянутым работам Шонгауэра, свидетельствуют формы, в которые была перенесена композиция Рогира ван дер Вейдена. Об этом свидетельствует трактовка младенца Иисуса, которого надо сравнить с младенцем «Мадонны с попугаем», и трактовка самой богоматери — близкая к изображению «Мадонны в беседке из роз», — с которою фигуры «Поклонения волхвов» разделяют также и тяжеловесную крупную игру складок. Шонгауэр отталкивается от Рогира ван дер Вейдена также и в области композиции и притом в таком направлении, для которого можно найти предпосылки в нидерландской живописи того же времени. Вместо авансцены, отделенной от фона архитектурой в виде кулис, выступает попытка наглядно связать оба плана — передний и задний — посредством процессии конных рыцарей. Аналогичное решение имеется в трех известных нидерландских изображениях «Поклонения волхвов». Одно из них — кисти Дирка Боутса — находится в Мюнхене, другое, написанное Гертгеном, — в пражском Рудольфинуме, и третье — работы Герарда Давида—в Брюссельской галерее. Тесная связь между этими тремя картинами и гравюрой Шонгауэра выявляется, не говоря уже о композиции, в различных деталях, как, например, в типе коленопреклоненного волхва с ниспадающими волосами и длинной бородой, или в группе, образуемой стариком и юношей, стоящими во главе свиты. Наиболее раннее из этих произведений написано Дирком Боутсом, и оно-то, несомненно, и могло послужить образцом для аналогичной по теме работы Шонгауэра. Однако в трактовке фигур Шонгауэр очень заметно отходит от Дирка Боутса и значительно больше приближается к Гертгену, картина которого, по общепринятому предположению, возникла позднее, чем гравюра Шонгауэра. Является ли это предположение неверным, — что вполне возможно, если принять во внимание полнейшую неточность всех дат, намеченных в отношении работ Гертгена, — или же объяснение кроется в потерянном связующем звене? В пользу второго предположения как будто бы говорит следующее: коленопреклоненный волхв в шонгауэровской гравюре является возвратом к Гуго ван дер Гусу. Совершенно похожую, воодушевленную той же идеей фигуру находим мы в алтаре Монфорте, который по убедительным исследованиям Гольдщмидта[103] возник около 1470 г. Да и другие фигуры в шонгауэровской гравюре во многом совпадают с фигурами великого гентского мастера, так что связующее звено следовало бы искать в кругу, близком к Гуго ван дер Гусу. Но может быть, этим промежуточным звеном была гравюра самого Шонгауэра? В связи с этим вопросом возникает другой. Подытожим сказанное. Шонгауэр противостоит нидерландскому искусству в качестве самостоятельного гениального мастера (так же, как позднее Дюрер противостоит итальянскому искусству), являясь, другими словами, не подражателем, но творцом, осваивающим и перерабатывающим то, что было для него поучительным в произведениях старого нидерландского искусства, а также в работах современных ему мастеров. Что же, однако, являлось при этом его духовной собственностью? При всех тяготениях и заимствованиях Шонгауэра основной характер его изображений все же существенным образом отличается от всех более старых и современных ему нидерландских параллелей. Совершенно другое искусство сказывается в этом характере, на что с особенной очевидностью указывают два момента. Прежде всего — радость повествования. Тогда как изображение у фламандских художников воздействует, как совокупность этюдов с натуры, у Шонгауэра, напротив, оно является эпически-созерцательным докладом. Этот момент не являлся присущим Германии с незапамятных времен, но возник в XV в., когда, как уже было сказано, всеобщая духовная жизнь наполнилась огромной потребностью в обучении, в пище для знания и для фантазии и в соответствующих зрительных образах. Манеру повествования Шонгауэра отличает первозданность, свежесть, корни которой можно многократно проследить в немецкой живописи, причем тут же мы сталкиваемся и со вторым моментом: с поэтическим углублением темы, создающим впечатление человеческой близости художника по времени к той сцене, которую он изображает. Эти особенности еще более очевидны в остальных листах, относящихся к серии «Жизнь богоматери» и возникших, вероятно, одновременно с «Поклонением волхвов». В гравюре «Рождество Христово» (В. 43), так же как и в «Поклонении», можно было бы найти элементы нидерландского искусства около 1470 г. Однако вряд ли необходимо повторять вышеуказанные доводы. Гораздо важнее отличительные черты, которые в этом листе выступают с особенной отчетливостью. Новым является уже то, что сцена переносится в интерьер. У нидерландских художников действие обязательно происходит перед деревенской хижиной, на фоне пейзажа, изображение которого принадлежит к числу тех вещей, при созерцании которых зритель должен восхищаться мастерством художника в передаче натуры. У Шонгауэра сквозь развалины стен виден готический зал, в котором нашли прибежище странники и посредством которых главная группа действующих лиц оказалась обрамленной и изолированной от окружающего мира, так что вместо свободного расширения сюжета выступает большая концентрация его. Эта уединенность сочетается с приглушенным освещением, передача которого заслуживает величайшего внимания. Проблема светотени, на которых она основывается, не были чужды нидерландской живописи — они были поставлены уже Яном ван Эйком, и в их разрешении он поднялся на ступень, которая опередила создавшую ее эпоху и не была достигнута непосредственными последователями ван Эйка в южных Нидерландах. Наиболее характерной иллюстрацией к только что сказанному является портрет супружеской четы Арнольфини и «Мадонна в церкви». Эти проблемы снова становятся актуальными только в последней трети XV столетия. Наиболее отчетливо выступают они в серии изображений ночи в сценах рождества Христова, восходящих к композиции, которая причудливым образом как будто имела ту же самую судьбу, как композиция, на которую опирался Шонгауэр в своем «Поклонении волхвов». И снова по меньщей мере предпосылки угадываются нами у Боутса, и снова Гертген, Герард Давид представляют собой дальнейшую ступень в разрешении упомянутых проблем. В данном случае уже высказывалось предположение, что промежуточное звено следует искать в творчестве ван дер Гуса, которому бы как-то соответствовала гравюра Шонгауэра[104] . В области колористического разрешения проблемы освещения Шонгауэр занимает теперь промежуточное место между Боутсом и Гертгеном, с одной стороны, и авторами позднейших светотеневых изображений — с другой. Эти художники в основном ограничиваются резким противопоставлением черной ночи отдельным ярко освещенным формам, тогда как Шонгауэр, напротив, ставит своей задачей передачу тончайших оттенков и переходов светотени. Он отнюдь не изображает ночной сцены: пейзаж светится и серебрится, как при наступлении дня, и только под сводами еще не светло, так что св. Иосифу приходится освещать сцену при помощи фонаря. Отблеск этого освещения лежит на святом семействе и на животных, однако они не образуют резкого контраста по отношению к темному фону, а выступают из него посредством постепенных переходов и нежнейшей цветовой градации. В этом отношении Шонгауэр превосходит даже ван дер Гуса и представляется подлинным пожинателем того, что было посеяно Яном ван Эйком на полвека раньше. Это достижение, кроме того, было связано с радикальной переоценкой в области рисунка, являвшегося до сих пор в Италии и в Нидерландах, как и в эпоху средневековья, лишь вспомогательным средством формальной конструкции и бесцветным каркасом для изображения в красках и при определенном освещении. Немецкие граверы, как уже подчеркивалось ранее, начали стремиться к тому, чтобы рисунок приобрел самостоятельное значение. Но путь к этому лежал вовсе не через пассивное перенесение в гравюру на меди достигнутой в станковых картинах реалистической живописности, наоборот, проблема живописности разрешена была Шонгауэром вполне самостоятельно посредством богатых линейных переходов и путем применения перекрестной штриховки, при этом из-за обусловленного техникой выполнения ограничения выразительных средств в целом, было достигнуто значительное углубление живописных возможностей. Таким образом, рисунок, как таковой, становится основой живописности и отражением чувственного опыта во всей его полноте, и это новое понимание и роль рисунка распространяются как большое художественное нововведение всюду, где ход развития направлял внимание в сторону изображения живописных явлений. В последние десятилетия XV в. это нововведение заимствуется Нидерландами, но также и Италией; здесь в этом участвуют сначала умбрийцы (от которых этому учится Рафаэль), затем Мантенья и венецианцы, так что прямой путь, ведущий от нидерландского искусства через кольмарского ювелира и гравера к живописным тенденциям начинавшегося чинквеченто, нагляднейшим образом документирован. При этом в гравюрах Шонгауэра в области разрешения светотеневой проблемы включена была еще одна задача, которая отсутствовала у более ранних нидерландских художников. Она заключается в том, чтобы передать нечто большее, чем простую запись наблюдений над природой или уточнить интересную в предметном отношении, возбуждающую ситуацию; она заключается в том, чтобы концентрацией главных действующих лиц содействовать композиционной четкости и — в целях создания определенного настроения — повысить впечатление трогательного единения. Это же подчеркнуто и в композиционных взаимосвязях фигур главной группы. Как и у нидерландцев, Мария, Иосиф и даже крохотный младенец Иисус представляются скорее взятыми из жизни Людьми, чем идеализированными и героизированными божественными персонажами. Но реализм Шонгауэра сильнее, чем у нидерландцев, он выходит за пределы наблюдения над внешней действительностью. Его персонажи из библейской истории являются выхваченными из жизни фигурами не только судя по их внешнему облику, но и передача их поведения уже не покоится на традиционной литургической торжественности, а является более человечно-простой. Их объединяет не какое-нибудь исключительное событие, не какое-либо особенное торжество или приподнятость настроения, а только простое, человеческое чувство; не повышенные аффекты, а только тихое, счастливое созерцание ребенка, только это наделяет изображенных людей из народа чувством сопричастности, отблеск которого ложится, кажется, и на зверей. Замкнутость, полумрак и проникновенное настроение — все это отделяет святых персонажей от окружающего мира. Они с ним не связаны и не проявляют себя в нем, как в аналогичных изображениях нидерландцев. С другой стороны, окружающая действительность не оттеснена на задний план и не является лишь дополнением к главенствующей в изображении объективно-построенной фигурной композиции, как в Италии. Шонгауэр только устанавливает грань между интимной семейной сценой и окружающим миром, который замыкает ее со всех сторон, со всех сторон в нее заглядывает, соучаствует, и все же некоторой дистанцией отделен от ее тишины. Сбоку смотрят в помещение пастухи не в порывистой молитве, но с пугливой сдержанностью, как бы не смея помешать тому, что представилось их глазам. И утро глядит в интерьер, и сверху сквозь пролом в своде глядит небо, и мы сами — благодаря просвету в разрушенной передней стене — являемся свидетелями этой тихой священной ночи, в которой ничего не происходит и тем не менее все полно жизни, все звучит, как захватывающая сладостная песнь, как песнь ангелов над крышей развалин. У ван дер Гуса ангелы участвуют в поклонении пастухов; у Боттичелли они являются божественными посланцами и пажами богоматери; у Шонгауэра же связь ангелов с тем, что происходит под крышей, над которой они витают, является не телесно ощутимой, но понятной лишь сочувственно настроенному зрителю. Они являются элементом нового субъективного чувственного одухотворения и внутреннего углубления изображаемого; в этом смысле Германия с начала XV столетия сделала большой шаг вперед, причем это одухотворение и углубление связано было при помощи Шонгауэра с нидерландским натурализмом. Оно охватывает все существующее, во что сила воображения художника вовлекает даже неодушевленные предметы. Ведь даже архитектура, даже какие-нибудь старые увитые плющом развалины проникнуты для зрителя тем же настроением, которым охвачено изображение в целом. Совершенно иначе изображают руины художники в Нидерландах и в Италии. Итальянцам они дают лишь повод для узорных сочетаний строительных форм, а нидерландцы подходят к их трактовке с точки зрения правдивой и точной передачи натуры. Шонгауэр, так же как и нидерландские художники, относится с величайшей добросовестностью к передаче действительности, но разница в том, что он вкладывает сюда другое, духовное содержание. Нидерландские художники изображали растения с натуралистичностью, приходной для гербария; постройки можно было бы по их изображениям выстроить заново; приборы преподносились ими как портреты приборов — все это умеет и Шонгауэр, но он хочет и может еще больше. Рассмотрим поближе, хотя бы, плющ. Возможно, что современник Шонгауэра в Нидерландах изобразил бы к примеру на полях молитвенника отдельные листочки и ветви с большей точностью, но Шонгауэру этого недостаточно; в неменьшей степени его интересует индивидуальная жизнь, которую можно подметить у такого растения и которая находит свое выражение в том, как оно извивается, тянется вверх, переплетается, цепляется за стену и на ней разворачивается. Или посмотрим, как растет у него подорожник на каменной постройке, как эта постройка, брошенная на произвол судьбы, сама сделалась частью природы, являясь могилой и одновременно колыбелью для новой жизни, вырастающей на развалинах. Средневековое воззрение — «omnia animata»[105] — наличествует и здесь, но только не как в средневековье и как в немецком искусстве первой половины столетия, в трансцендентном смысле, а на базе нидерландского натурализма, как отражение естественного, чувственно-полноценного переживания действительности, всех вещей и всего сущего, которыми она наполнена. Фантазия получила теперь новую пищу; изображение священной истории приобретает новый характер, как будто художник рассказывает сказки, в которых передается таинственное объединение людей и природы. Силой воображения легенды переплетаются с впечатлениями действительности, конкретизируясь в новых поэтических и живописных образах. Так, например, в гравюре «Бегство в Египет» (В. 7) тропический лесок сочетается с настроением севера; в этих зарослях разгуливает олень, а на опушке резвятся ящерицы, растут лучинник и чертополох, к которому недвусмысленно приближается осел. На небольшой лесной прогалинке, обрамленной густыми тенями, отдыхают странники в идиллическом уединении. Согласно легенде, ангелы нагибают деревья, предлагая усталым голодным путникам отведать растущие на них плоды. Шонгауэр это происшествие изображает иначе. Ветви притягивает книзу крепкий и сильный Иосиф, ангелочки же — маленькие и нежные — помогают ему подобному тому, как дети иногда с ребяческим усердием пробуют принять участие в работе взрослых. Дети являются здесь чисто поэтическим элементом, как позднее у Дюрера и у Альтдорфера, чудо не приходит здесь извне, оно тут (нужно только его увидеть) в поэзии леса (который Шонгауэр попытался изобразить впервые) и везде в природе, так же как и в простой человечности происшествия, не нуждающегося ни в каком чуде для доброго и захватывающего воздействия на зрителя. Корреджо несомненно имел перед глазами этот лист, когда он делал набросок своей мадонны Скоделла. Но сверхъестественное также не отсутствует у Шонгауэра, о чем свидетельствует знаменитое «Искушение св. Антония» (В. 47), близкое по времени вышеупомянутым работам. Центр тяжести изображения лежит здесь в чудовищности духов, терзающих пустынника. Такого рода нечисти и страшилища являлись отличительным признаком христианского искусства с его дуализмом добра и зла, неба и земли, бога и дьявола, борющихся за овладение человеком. В раннем средневековье изображение чудовищ сводилось к демонизации античных легендарных существ и к восточному мерзкому объединению человека и зверя. Начиная с VIII столетия, подобные изображения стали уступать место другим изображениям, которые основывались больше на линейных сочетаниях, представляющих собою объединение отдельных, выхваченных из животного мира и чудовищно искаженных форм с человеческими, чем на антропоморфных представлениях; эти образы наделены были фантастической жизненностью, причем постепенное развитие здесь заключалось в том, что отдельные формы все больше приближались к своим прототипам. С начала XV столетия хоровод нечистей, монстров и нелепостей исчезает всюду, где действительность побеждала свободно творящую фантазию (в Германии позднее, чем где бы то ни было). И только в последней трети XV в. они снова оживают; наиболее известным примером здесь является искусство Иеронима Босха. Гравюра Шонгауэра говорит о том, что в процессе возрождения интереса к демоническому участвовал не один только Босх. Была ли связь между ним и Шонгауэром? Голландское искусство XV в. обычно рассматривается слишком упрощенно, как придаток к фламандскому, и недостаточно учитывается тот факт, что оно имело своеобразное развитие, которое во многих отношениях отличалось от южнонидерландского и, наоборот, как это особенно заметно в области скульптуры, имело много точек соприкосновения в период зрелости с немецким искусством. Вторая ошибка состояла в том, что по вине Карла ван Мандера распространилось неверное суждение, приписывавшее работы ведущих голландских художников XV столетия эпохе значительно более поздней, чем это было на самом деле. В произведениях Гертгена новые течения, возникшие в южнонидерландском искусстве, главным образом под влиянием Гуго ван дер Гуса, отражаются не как нечто устаревшее, но как шаг вперед, а потому Гертген примыкает к этим течениям и делится своими достижениями со своим учеником, Герардом Давидом. Из этого следует, что его важнейшие работы должны были возникнуть уже в семидесятых годах[106] . Оуватер же являлся представителем предшествующего голландского искусства, так что его художественная деятельность могла начаться еще до середины столетия. Это обстоятельство мы должны все время иметь в виду. Что же касается Босха, то он начал писать около 1470 г., т. е. в то время, когда Шонгауэр уже вступил на арену художественной деятельности; это доказано Бальдассом[107]. Таким образом, искусство Босха можно представить себе как исходный пункт в творчестве Шонгауэра. Тем не менее, мне лично кажется возможным отдать в данном случае приоритет немецкому художнику. Шонгауэр примыкает к более ранним немецким изображениям демонических образов, какие можно встретить, например, у Мастера E. S. («Архангел Михаил», L. 166)[108] и которым по своему характеру и трактовке вполне соответствуют демоны в «Искушении св. Антония». Любопытно отметить, какой ограниченной оказывается человеческая фантазия, когда задача состоит в том, чтобы при помощи фантастических образов выйти за пределы реальных форм. Даже кажущееся богатство средневековья можно без труда свести к немногим основным типам, которые очень редко пополнялись абсолютно новыми представлениями. Но эти последние, несомненно, фигурируют у Шонгауэра. Новое при этом базируется главным образом на, так сказать, антиантропоморфном и в то же время анималистическом характере чудовищ. Это звери с отдельными частями человеческой фигуры, действующие как люди, — не настоящие звери, а выдуманные, и при том все же не абстрактные символы, а существа, наделенные убедительной жизненностью, которая базируется на том, что в основе этих образов лежат представления, связанные с наблюдением реального органического животного мира. Все то, что в области движения, функций и выразительности характерно для рыбы, ящерицы, для лягушечьего тела, птичьих ног, собачьей морды, крыльев летучей мыши, головы хищной птицы и ее когтей, все это перерабатывается в новые образы чего-то чудовищного, причиняющего душевные и физические мучения. Это особенно показательный образчик того, как из нового натурализма в соединении с более глубоким проникновением в жизненное многообразие произведений природы и человека (как это мы могли видеть в изображении растений и построек) возникали в то же время и надреальные фантастические образы и представления, и как эта фантастика и сказочность обусловлены не только религиозными учениями и человеческими поступками, как это было в Средние века, но и в неменьшей степени наблюдением над жизнью природы. Многочисленные пути ведут от этого листа, срисованного впоследствии не кем иным как Микеланджело, к последующему искусству, к Босху и Брейгелю на Западе, к Дюреру и Грюневальду в Германии, к новой трактовке демонического во всем мире. В ранних работах Босха еще не встречается та чертовщина, благодаря которой он впоследствии стал знаменит. Гравюра Шонгауэра не являлась для него неизвестной, так как его основную идею о мучениях Антония на воздухе он развертывает в изображении искушения этого святого, оригинал которого находится во дворце Айуда в Лиссабоне, а в одном из листов Иеронимуса Кока, сделанном с Босха, образы Шонгауэра перенимаются даже в деталях[109]. Поэтому я не сомневаюсь в том, что фантазия Босха, благодаря Шонгауэру, получила толчок к уходу в чуждую до того времени Нидерландам область демонического, позднее все более подчинявшую своей власти нидерландского художника. Благодаря этому чрезвычайно обогатился его репертуар, а его действующие лица получили новое значение и новые роли в гротескных преувеличениях — пародиях на повседневность и на все то, что в ней мучит и терзает человека, — в образах, как бы навеянных кошмарным сном, в гнетущих видениях, так же как это сказалось и в более тесном переплетении с пейзажными мотивами. Босх более современен с точки зрения развития последующих столетий, однако характер его образов нечистой силы навеян Шонгауэром, так что предысторию нового воплощения темных сил в природе и в человеческой жизни следует искать не в голландской живописи, а в немецкой. С совсем другой стороны, чем в упомянутых выше произведениях, поворачивается к нам творчество Шонгауэра в группе гравюр на меди с историко-драматическим содержанием. Сюда входят «Смерть богоматери» (В. 33), пожалуй последний лист из серии «Жизнь богоматери», большое «Несение креста» (В. 21) и «Страдания Христа» (В. 9 до 20), которые могли возникнуть и позднее. Во всех этих листах художника интересует передача динамики происшествия. Изображение пейзажа отступает на задний план, ведущую же роль получают человеческие поступки и определяющие их душевные свойства и порывы. При этом выступает отчетливое различие между серией «страстей» и сценой «Смерти богоматери». Ложе Марии окружают мощные образы, наделенные такой монументальностью, которая характеризует отдельные фигуры Гуго ван дер Гуса (и о которой напоминает также композиция заднего плана), и таким пафосом, в котором можно было бы увидеть влияние работ ван дер Вейдена. Гораздо сильнее, однако, чем эти отзвуки нидерландских впечатлений, выступает здесь новый реализм, не покоящийся на нидерландской внешней правдивой передаче действительности, но переносящий старые идеальные образы христианского искусства — и телесно и духовно — в область реально-человеческого. Хотя старые типы в основном сохранились, все же ученики Христа в их облике и поведении, в их корявых и неотесанных фигурах с растрепанными головами ремесленников и скромной проникновенностью, набожностью и участливостью, трактуются не как героические свидетели прошедших времен и не как просто слепок с действительности, но как пережитая человечность и как основанное больше на видимом явлении перенесение рассказа в реальные впечатления современности; таким образом, изображение получает характер передачи захватывающего происшествия, имевшего место в среде простых, но глубоко впечатлительных людей, окружающих художника. Этот реализм не является чем-то новым, но коренится в немецком искусстве первой половины XV в. и в господствующем в нем противопоставлении трансцендентно-абстрактного и человечески-реального. Этот реализм, оттесненный нидерландскими воздействиями третьей четверти столетия, снова завоевывает себе главенствующее положение после того, как поток этих влияний начал иссякать. Средства выражения в гравюре Шонгауэра говорят о том, что этот художник прошел через нидерландскую школу, но осмысливание духовного содержания соответствует тому настроению, под влиянием которого создавали свои произведения Лука Мозер, Конрад Витц и Мульчер. Только реализм Шонгауэра был менее примитивным, чем у его предшественников в первой половине XV века, которые в элементарно порывистой, иногда грубой первобытности, принципиально противопоставляли вечным и безграничным духовным ценностям осязаемую духовную реальность, тогда как у Шонгауэра она в гораздо большей степени являлась исходным моментом образной инвенции и единства, а также (в силу своей связанности с наблюдениями) источником их обогащения. Все это становится еще более очевидным в серии «Страстей», которая во многих отношениях приближается к гравюре «Смерть богоматери». Уже тот факт, что эти изображения создавались в порядке цикла, не соответствовал тогдашнему фламандскому искусству, от которого Шонгауэр в сценах этой серии все дальше отходит, хотя во второстепенных моментах изображения пережитки нидерландского влияния все еще остаются. Композиция здесь сконцентрирована; и основной задачей является не изучение натуры, а рассказ о развивающихся и волнующих событиях, который построен на противопоставлении страдальца толпе ero врагов. В отношении последних художника интересует в первую очередь повествование о низости их инстинктов, об их черствости и бессердечности, выраженных посредством необузданных диких движений и жестов, главным же образом через выражения лиц, как это повсюду было свойственно средневековому и даже немецкому искусству первой половины столетия. Только у Шонгауэра — вместо привычной типологии — мы видим результаты изучения физиогномики, изучения, основанного на богатстве жизненных наблюдений. Двенадцать листов данной серии содержат целую галерею образов, которые — судя по характеристике их внутреннего облика — кажутся выхваченными прямо из жизни, образуя темный фон, на котором тем сильнее выделяется спокойный и просветленный идеальный образ Христа. Это искусство не такое, как артистически культивированное искусство живописцев Гента и Брюгге. Подобно тому, как Микеланджело несколько лет спустя отходит от бездушно рабского подражания натуре Гирландайо и возвращается к Джотто, Мазаччо, Джованни Пизано и Кверча, т. е. к первоисточникам тосканского фигурного искусства, так Шонгауэр, пройдя через нидерландскую школу, возвращается к тому, что в более раннем немецком искусстве являлось самобытным и значительным. Почерпнув оттуда противопоставление злого начала в человеке небесным силам в целях углубления религиозного и художественного переживания, он приходит через нидерландский натурализм к реалистически-психологическому изображению человека, к которому позднее примыкает Дюрер и которое так же, как и фантастические видения Шонгауэра, оказало влияние на голландскую живопись, о чем свидетельствуют снова произведения Иеронима Босха. Огромное повышение интереса к выразительности лица можно найти также и у Босха, прежде всего в серии «Страстей»[110] , хотя в первых листах этой серии влияние Шонгауэра лишь едва заметно в композиции, в ее динамике и в отдельных персонажах. Недавно[111] с полным основанием было выдвинуто предположение, что Босх самостоятельно прокладывал новые пути в нидерландской живописи. Но пути эти так отчетливо перекрещиваются с ранними элементами немецкого искусства, и в частности с развитием Шонгауэра, что ни в коем случае не следует говорить о случайности, при этом Босх однако быстро переработал элементы немецкого влияния соответственно голландским художественным представлениям и дальше их самостоятельно развил. Эти взаимосвязи, разумеется, не исключают того, что ситуация одновременно бывала и обратной, что позволяет предположить превосходная работа Шонгауэра «Несение креста» (В. 21). Сопоставление трогательной поникшей фигуры Христа с дикой и грубой солдатчиной напоминает о сценах из серии «Страстей». Своеобразие этого произведения заключается в том, что группа действующих лиц включена в грандиозную мировую драму, в длинную процессию, которая движется, как на сцене, медленно, из Иерусалима по направлению к Голгофе, на фоне фантастически-чуждого зрителю пейзажа, и что в картине проходят многочисленные жанровые мотивы. И не только в области композиции, но также и во многих частностях изображение указанной процессии покоится на схеме, игравшей большую роль в голландской живописи последних десятилетий XV и в начале XVI столетий и исходившей от композиции, которая раньше приписывалась Яну ван Эйку, но которая, по моему мнению, присуща равным образом и голландцам[112]. В том, что эта схема заимствована Шонгауэром из голландского искусства, вряд ли могут возникать сомнения. Группа с плачущей богоматерью, отсутствующая в копии с оригинала, встречается — и притом с большими совпадениями — в позднейших голландских вариантах этого изображения, так же как и у Шонгауэра, причем связь с голландцами выступает особенно отчетливо в трактовке лиц и жанровых фигур. Профили голов с орлиными носами и выступающими подбородками (внешний облик волевых личностей), насупившиеся, тупые, или по-звериному искаженные физиономии Простого народа, сосредоточенно-замкнутые выражения лиц у всадников — все это такие моменты, которые отсутствуют в прежних работах Шонгауэра, но которые свойственны голландской живописи, начиная с Оуватера, вплоть до романистов. К этому присоединяется то обстоятельство, что все персонажи — как действующие лица, так и зрители — являются соучастниками трагической сцены, проявлением тех или иных духовных потенций, связанных единством духовного замысла. В этом отношении чрезвычайно любопытна фигура всадника в левом углу изображения. Как злой рок, напирает на авансцену людская толпа. На мгновение она останавливается, задержанная падающей фигурой Христа, но сейчас же вслед за этим она, однако, снова потащится дальше к лобному месту, над которым нависла большая черная туча. Благодаря внезапной заминке остановился также и юный всадник. Он обернулся, и взгляд ero скользнул по Христу — взгляд, где соединились сострадание и презрение, взгляд, переданный с таким громадным мастерством психологической характеристики, какого не найти ни у кого из современников Шонгауэра, наличие его у самого Шонгауэра было бы невозможным без искусства, которое — подобно голландскому, что прослеживается на протяжении всего его развития изображения человека, — привыкло в большей мере сочетать с натурализмом пассивность психической внутренней жизни, чем страстность и активность[113] . То, что у Шонгауэра раскрывается в определенный момент его развития, является у голландцев характерным признаком их художественной школы, вследствие чего надо полагать, что влияние голландской живописи на немецкого художника действительно имело место; это тем вероятней, что аналогичное сходство можно установить также в жанровых чертах изображения у Шонгауэра. Подобные черты не были, конечно, новыми. Уже в готическом искусстве при изображении эпизодов из священной истории было принято брать обличия для второстепенных фигур непосредственно из современной жизни, и во всем нидерландском искусстве XV столетия было не редкостью в качестве аксессуаров в произведениях церковной живописи или в качестве материала для светского рассказа прибегать к чисто жанровым фигурам и сценам. В Германии этот прием быстро получил большое распространение, особенно в области иллюстрации, причем он применяется как в иллюстрированных печатных книгах, так и в отдельных гравюрах на дереве и на меди. Однако в гравюре Шонгауэра «Несение креста» жанр получает новый смысл. Он является не только внешним, натуралистическим придатком, оберткой, но и предпосылкой для правдивого человеческого повествования и таким образом связан неразрывными нитями с общим духовным содержанием изображения. В этом также можно усмотреть возникшую еще до шонгауэровской гравюры и непрерывно продолжавшуюся вплоть до XVII в. линию художественного развития в Голландии. Ее начало, не говоря о более ранних предпосылках, мы находим в ранних работах Гертгена и Босха, причем в особенности последнему дано было вскоре при помощи сотканного из снов и действительности speculum mundi[114] утяжелить ту чашу весов, которая соответствует ценности человека. Конечно, и у Шонгауэра в известной мере была такая потенциальная возможность как в изображениях чисто религиозного, так и светского характера (стоит только вспомнить его замечательный «Выход на рынок», В. 88), однако между такого рода отдельными фрагментами и абстрактным выделением важнейших для человечества событий из присущих ему свойств, как в «Несении креста», лежит пропасть, которая может быть объяснена только наличием где-либо в другом месте лежащих предпосылок и обусловленного им толчка, пробудившего дремлющие силы; а, судя по всему положению вещей, только в голландской живописи и следует искать этих предпосылок. О простом подражании со стороны Шонгауэра на данном этапе его развития не может быть и речи. Независимо от заимствований и родства в понимании духовного содержания, «Несение креста» представляет собой работу самостоятельную и полную решающего своеобразия, работу, которая особенно в двух отношениях превосходит творения современных Шонгауэру голландцев: в изображении динамики происшествия и в сочетании его с сильным драматическим воздействием. У голландцев пейзаж является господствующим элементом в образном построении. Фигурная композиция распадается на группы и отдельные фигуры, объединенные пейзажем и духовным содержанием, которое больше проявляется в пассивном восприятии впечатлений людьми, участвующими в происшествии, чем в активном участии в нем. При этом зрителю самому предоставляется установить единую образную связь между фигурами и пространством, с одной стороны, и в пределах самих фигур — с другой. У Шонгауэра пейзаж отступает на задний план, и хотя он и образует раму, замыкающую композицию, акцент лежит все же на последней. Печальное зрелище, которое, подобно римским рельефам с изображениями триумфальных процессий, проходит перед глазами зрителя, является центром тяжести изображения — как в средневековье и еще в больших композициях Джотто — с тем, однако, различием, что вместо хронологического перечисления и определенной последовательности сцен и фигур, выступает единая процессия, непрерывное разворачивание волнующего происшествия — толпа людей, приведенная в движение участием в необычном событии. Тут нет просто стаффажа, все, кого мы там видим, участвуют так или иначе в том, что происходит или должно произойти: одни страдают, другие находятся под влиянием злых инстинктов или по обязанности, некоторые же просто любопытствуют. Этим обусловлена невероятная жизненность целого, которая действует тем сильнее, что она одновременно связана с нарастающим драматизмом. Движение процессии, которая извивается, как змея, ползущая из города через скалы по направлению к лобному месту, нарастает и запутывается в середине. Вместо простого устремления вперед здесь возникает множество моментов движения — кульминационный пункт драматизма, связанный с иным превознесением идеального, чем это было свойственно более раннему искусству. Новое заключается в более тесном переплетении страданий Христа с тем, что сегодня назвали бы «психологией масс». Все происшествие представляет собою нечто большее, чем просто историческое повествование или рассказ, перенесенный в область всемирно-героического, нечто большее даже, чем средство для молитвенного возвышенно-религиозного настроения; происшествие превращается в захватывающую сцену из жизни, трагедию, которая строится на том, что характеризует изображенных людей в области их ощущений, воли и житейских свойств. В начале и в конце процессии эти психологические и социальные различия и градации между людьми изображены в качестве признака «толпы»; в середине — развертывается драматический конфликт, в котором резко противопоставлены благородство и подлость, животная ярость и божественное самопожертвование ради человечества. И надо всем этим господствует высшая сила, руководящая потоком так, чтобы исполнилась судьба. Неудержимо влечет она его из долины, в которой расположен город, сквозь скалистые ущелья туда, где черная туча встречает дугообразное движение губительного рока с тем, чтобы увести его обратно в город, откуда он вышел. Ничто не могло бы нам яснее показать, как неверно выводить происхождение нового искусства постоянно только из Италии или Нидерландов, чем эта гравюра, в ней дано такое изображение характеров и двигающих толпою стихийных сил, на основе которого покоится эпический и драматический стиль, удержавшийся после принятия и преодоления итальянских влияний и обусловивший понимание трагического в искусстве нового времени. Сам Шонгауэр не последовал дальше по этому пути. Последняя серия его работ, которая еще подлежит нашему обсуждению и относительно которой я предполагаю, что она была последней также и по времени, преследует совсем иные цели, блестяще выявленные Фридлендером, поскольку речь идет о развитии графического мастерства. В то время, когда Шонгауэр находился под сильным влиянием Нидерландов, он стремился к тому, чтобы передать их достижения в области живописности на языке черного и белого. В тех листах, о которых речь еще впереди, он ограничивается изображением того, что соответствует имеющемуся в области резцовой техники приемам и что без труда может быть исчерпывающе достигнуто изобразительными средствами, лежащими в пределах гравюры на дереве. Этим Шонгауэр приближается к своим более ранним вещам. Но то, что тогда сводилось к примитивным исканиям, превращается в позднейших работах в высокую законченность и уверенность зрелого мастера, которые, однако, являются достижениями не только технического порядка, но, будучи обусловлены новыми художественными задачами, базируются на несравненно более свободном преодолении всех формальных проблем, разрешенных в течение среднего периода его творчества. Вместо широко развернутого повествования перед нами выступают отдельные фигуры или совсем простые композиции. В то время как в листах среднего периода господствовал прямо-таки horror vacui[115] , т. е. перед незаполненным пространством, теперь даже там, где изображен пейзаж, фон трактуется, насколько возможно, как освещенная единая плоскость, весьма скупо расчлененная, без малейшего следа той описательной обстоятельности, которая наличествует в работах современных Шонгауэру нидерландцев. В предшествующем Шонгауэру немецком искусстве такое выполнение часто отсутствовало в силу необходимости. Шонгауэр же в своих позднейших работах пренебрегал им потому, что его интересовало прежде всего воздействие отчетливой рельефности фигур. Прежние натуралистически оживленные движения не укладывались в такую упорядоченную композицию, которая бы давала ясную возможность охвата объемных форм в их пластической выразительности. Теперь же в области композиции вместо расплывчатости выступает концентрация. Вместо нагромождения мотивов появляется гармоническое расчленение изобразительной плоскости и мягкая ритмичность, которая определяет линейную конструкцию, объединяет обе фигуры сцены «Не тронь меня» (В. 26) в формально целостную группу и способствует, таким образом, наиболее отчетливому осмысливанию духовного содержания данного произведения. Реализм, характеризующий средний период творчества Шонгауэра, здесь исчезает: две идеальные фигуры, их облик, местоположение и жесты, преисполненные тихой праздничности и объединенные в единый аккорд, говорят о стиле, который как бы приближается к позднеготическому и, однако, представляет собою нечто совсем другое; это стиль, который не ищет идеалов по ту сторону действительности, по ту сторону человеческого, а возводит и человеческое и действительность в высокую и полноценную сферу идеального. И далеко неслучайным является то обстоятельство, что Шонгауэр в это время постоянно возвращается к изображению стоящей мужской фигуры, занимающей собою всю поверхность листа. Ряд таких фигур означает возникновение нового статуарного стиля, в котором на место готически-иррациональных мотивов приходят сочетание телесных форм и естественное построение. Представим себе Иоанна Крестителя (В. 54), выполненного в виде статуи: какое произведение современной Шонгауэру немецкой скульптуры подошло бы ближе к Ренессансу? В гравюрах, изображающих апостолов (В. 34 — 45), Шонгауэр рисует мощные фигуры, которые дают повод говорить о ero сходстве с Донателло с точки зрения выбора тем. Обременительная тяжесть одежды, ее отношение к телу в соединении с различными видами простой монументальной постановки стоящей фигуры, четкие контуры импозантных идеальных фигур — все это показывает, как сильно Шонгауэра начинают занимать формальные проблемы независимо от технических и как они для него становятся важнее, чем расширение зрительного восприятия. О том, что Шонгауэр в это время интересовался проблемой изображения нагого тела в том виде, как это было свойственно Ренессансу, свидетельствует большая гравюра «Св. Себастьяна» (В. 59). Шонгауэр не ставит здесь своей задачей достижение сходства с образцами, но делает попытку органически-естественного построения тела посредством более резкого подчеркивания его членений и отчетливого возвышения и оформления мускулатуры, в соответствии с основной задачей итальянского искусства со времен Донателло. Все эти нововведения: самоограничение проблемами изображения фигуры, ритм, построенный на объективных закономерностях, рельефное и статуарное воздействие, идеализация, или, другими словами, — поворот от индивидуального к общечеловеческим ценностям и связанный с этим перевес формальных проблем, противопоставленных субъективному наблюдению, — все это соответствует такому пониманию искусства, которое в Италии являлось результатом длительного развития и которое пытаются охватить названием итальянского Ренессанса. Тот факт, что Шонгауэр направился по этому пути, не удивит нас, если мы вспомним, как в то время (в особенности на Западе) из года в год росло влияние этого направления. Даже нет необходимости предполагать, что Шонгауэр видел итальянские работы (хотя это и не исключено), так как итальянские гравюры могли во многом дать толчок его мысли; совершенно независимо от этого, итальянским влиянием была пропитана атмосфера, и многими не поддающимися нашему исследованию путями идет приближение к духовной культуре Ренессанса еще задолго до того, как появляется возможность говорить о ее непосредственном влиянии. К этому прибавилось и нечто иное. Если не говорить о соответствии образцам в постановке проблемы, «Себастьян» Шонгауэра действует не как произведение итальянского художника. Проблемы соприкасаются, но эмоции различны. Во всех формах и линиях царит необычайное беспокойство: в раненом стволе и высушенных ветвях, в развевающемся изломанными складками платке и в очертаниях тела. Прямые линии, как таковые, почти отсутствуют, все превращено в кривые, и произведение в целом говорит о заложенных в нем художественных эмоциях, независимых от итальянской закономерности. Чтобы все это стало понятным, необходимо еще раз вернуться к развитию немецкого искусства в целом в течение всего XV столетия. IVЕсли раннее, ориентированное на естественные науки, построение истории искусств любит сравнивать художественное развитие с ростом растения, то в основе нашего рассмотрения представилась бы картина непрерывной борьбы за духовное и формальное содержание искусства. Отцы и сыновья часто образуют противоположность, а это значит, что новое поколение отворачивается от художественных стремлений предыдущего и ищет новых путей, причем часто приближается к отвергнутой позиции, всецело, однако, к ней не возвращаясь. Аналогичный процесс произошел в немецкой живописи конца XV столетия. Тесные отношения, связывавшие ее в третьей четверти столетия с нидерландским искусством, постепенно распадаются, но плоды этих взаимоотношений — любовная правдивая передача действительности и стремление к созерцанию — остаются; по существу говоря, они только теперь и начинают созревать, не исчерпывая, однако, понятия «художественного», которое отныне вновь сильнее обусловлено полетом фантазии, выходящей за пределы непосредственного чувственного восприятия. Особенно отчетливо это проявляется в области книжной иллюстрации. В той же мере, в какой «изображение окружающего» становится богаче и художественно изобретательнее, растет и радость, заключенная в игре воображения, возбужденная впечатлениями от природы и жизни, однако не ограниченная ими и проистекающая больше из внутренних, нежели из внешних источников художественного творчества. Каким необычайным является, например, танец Смерти в «Мировой хронике» Шеделя. В ней отсутствует все, что составляло славу современной Шонгауэру нидерландской или итальянской живописи: и натуралистический пейзаж, и предметно-богатое повествование, и точность в передаче материала, как это свойственно нидерландцам при изображении натуры, и закономерность построенной композиции, и точность рисунка, и, наконец, выверенная анатомическая и пластическая объективность, которая являлась характерным для итальянского искусства. С этой точки зрения изображение «Мировой хроники» является бедным, однако бедность эта превращается в захватывающую оригинальность, если попробовать приложить к этому изображению иной масштаб и отнестись к нему не как к правдивой записи чувственного восприятия или его формальной идеализации, но как к искусству, в котором форма и линия определяются не столько внешними впечатлениями, сколько фантастическими представлениями, в результате чего получаются образы, полные своеобразной жизни, независимой от впечатлений реальной действительности. Во второй половине XV в. рисунки скелетов встречаются также и у нидерландских и итальянских художников; у первых эти рисунки представляют точное подражание действительности в передаче отдельных частностей, у вторых — стремление к анатомической правильности. Ни о том, ни о другом не может быть и речи в рассматриваемом нами немецком изображении. Схематично, почти чисто орнаментально кружатся ребра, спинной хребет похож на кишку, и кости рук и ног связаны, как у кукол. Поэтому изображение в целом проникнуто жуткой призрачной жизнью; кажется, что слышен стук костей; необычайные угловатые прыжки скелетов переносят зрителя в мир сверхреальных представлений, в котором, однако, каждый контур обладает независимой от подражания природе, ирреальной, проистекающей из духовного напряжения, автономной витальностью. Не иначе обстоит дело в области изображения пластической формы и в передаче пространственного и красочного воздействия. Разница заключается не в том, что изображение там является менее тщательно выполненным, чем в нидерландской или итальянской живописи. Итальянские гравюры на дереве идут еще дальше в смысле линейного ограничения пластической, пространственной и живописной композиции, но только в смысле линейной передачи всех этих моментов изобразительности, тогда как немецкого рисовальщика с самого начала окрыляет другая задача. Он вовсе не стремится к передаче материальной сущности тела, обусловленной силой тяготения закономерности, его естественного членения, его взаимоотношения с пространством (согласно зрительному опыту художника) или его живописности. Все это становится второстепенным. Противостоящая всем этим признакам внешнего мира и выражающаяся в чередовании белых и черных пятен и в одухотворенном движении форм свободная игра фантазии — вот что интересует художника прежде всего. Он привлекает для изображения предметно-реалистические мотивы. И — несмотря на это — изображение лишено материальности, и формы и краски имеют иное назначение, чем подача зрителю наиболее незаметной подмены действительности. Темное пятно раскрытой могилы (следует принять во внимание, что не сделано никакой попытки обозначить линейное ее углубление) образует базу для изображения, но не в статическом смысле, а, напротив, в качестве исходного момента ее неустойчивости, и от этой темной основы отделяются полукругами формы и пятна, обрамляя в возрастающем движении скелеты, в которых телесность и красочность почти целиком заменены линейностью. Продолжение данного хода мыслей делает понятным смысл организации элементов данного изображения. Вместо статического построения или развертывания в глубину возникает призрачное видение, освобожденное от такого рода зрительных норм. Мертвец, дующий в трубу, связан посредством своего одеяния с подымающимся из гроба. Соединяющие их мощные линии усиливают впечатление того, что мертвец вырывается кверху. С другой стороны, в самом лежащем проявляется жизнь. Он поворачивается, его рука подымается, и это движение повторяется, усиливаясь через стоящего справа мертвеца — в соприкосновении рук над головами танцующих ; а потом опять — через зигзагообразное построение рук, за которым глаз следует уже с трудом, — это движение повторяется правой рукой одного из танцующих, звуча, как дикий вопль безумия. Какой контраст по сравнению с эпической широтой нидерландцев, с гармонической уравновешенностью итальянцев! В танце смерти все охвачено одним единым процессом движения, благодаря которому хоровод вызывает содрогание. Тут выступает иной художественный принцип, чем в одновременной нидерландской и итальянской живописи, который мы не вправе расценивать более низко. Этот принцип проводится не только в отдельных изображениях, но лежит в самом основании немецкого искусства конца XV в., которое, вобрав в себя западный натурализм, снова начинает становиться идеалистическим. Оно стремится не к материальной передаче идеальных форм, как итальянское искусство, которое в эту пору тоже совершает поворот к идеализму, а прежде всего к духовному углублению и к достойным этого средствам выражения. Это во многих отношениях связывает его снова с позднеготической традицией, которая в Германии под оболочкой нидерландского натурализма всюду продолжала существовать, и дремлющие силы которой теперь, кажется, внезапно пробуждаются, наполняя новой жизнью фантазию и ее средства выражения, вплоть до мельчайшего их проявления. Во всяком случае, они приобрели совсем новое значение, о чем свидетельствуют великие художники, выросшие из этого движения, величайшие художники, которыми когда-либо обладала Германия. Почему Дюрер по окончании своего ученичества не направляется, как когда-то его отец, в Нидерланды? — Нидерландские мастерские вряд ли смогли представить для него интерес. Для немецкого художника искусство Шонгауэра превзошло по своему значению современное ему нидерландское искусство, являясь также и в годы странствований Дюрера большой школой для подрастающего поколения, так что молодого нюрнбергского художника должно было тянуть прежде всего в Кольмар. То, чем он и все тогдашнее немецкое искусство обязаны Шонгауэру, заключалось в невероятном углублении старых стремлений немецкого искусства XV столетия к обогащению духовной жизни посредством изобразительности. Свои образы Шонгауэр создал заново на основе достижений нидерландского натурализма и одновременно обогатил их новым пониманием жизненной сущности вещей, новым пониманием ценности переживаний, заглушённых повседневным существованием с его обычными происшествиями, и новым пониманием психологического реализма в передаче эпических и драматических происшествий. Во всем этом Дюрер был его учеником и остался им в известном смысле в течение всей своей жизни, так же, как и стиль Дюрера в области рисунка и графики Можно рассматривать как дальнейшее развитие достижений Шонгауэра. И, наконец, последние работы Шонгауэра могли привести молодого Дюрера к новому пониманию формальных проблем, которое тянуло его на юг, после того, как он возвратился с запада. И тем не менее, первый мощный продукт его творчества по окончании странствований, «Апокалипсис», являлся столь же отдаленным от Шонгауэра, как и от Мантеньи, представляя собой вдохновенное признание, откровение внутренней озаренности — бурно вскипающую проповедь в том смысле, как это понимал Лютер. [1920-1921]
38. Питер Брейгель Ст. Поклонение волхвов. Лондон, Национальная галерея.
43. Эль Греко. Погребение графа Оргаса. Толедо, церковь Сан Томе.
Примечания:1 Die Malereien der Katakomben Roms / Herausgegeben von I. Wilpert. Freiburg, 1903. 9 Ср.: Dehio. Kunsthistorische Aufsatze. Munchen, 1914. S. 6. 10 W. Worringer. Formprobleme der Gotik. Munchen, 1911 11 Также и недавно появившаяся обстоятельная книга A. Pelizzari о средневековых трактатах об искусстве (I trattati attorno le arti figurative in Italia I. Dall' antichita classica al sec. XIU. Napoli 1915) страдает подобной односторонностью. Ценна несколько многословная попытка Л. Пелицари доказать, что в алхимических, естественнонаучных и технических сочинениях и «книгах рецептов» непрерывно передавались и сохранялись остатки античной практической литературы об искусстве. Но значение этих трудов для искусства средних веков и его исследования при этом сильно переоценивается. Эти сочинения дают мало для оценки живого и постоянного развития взглядов на искусство и становятся лишь тогда важными, когда они, начиная с XIV века, в связи с возрастающим освобождением от средневековой трансцендентной обусловленности искусства во все большей и большей степени соединяются с художественно теоретическими правилами и рассуждениями. 99 Вероятно, опечатка в тексте М. Дворжака. Имеется в виду Ганс Плейденвурф (ок. 1420—1472 гг.). (Прим. ред.). 100 Мах I. Fridlander. Martin Schongauers Kupferstiche // Zeitschrift fur bildende Kunst. 1915, S. 105 ff. Уже Вендланд (M. Schongauer als Kupferstcher. Berl., 1907) пробовал положить в основу датировок гравюр Шонгауэра стилистические наблюдения. Но так как его исходной точкой были отдельные формы, он не мог достичь убедительных результатов. 101 3десь и далее В. — Batsch A. Le peintregraveur. 21 vols. Vienna, 1802-1821. 102 Осколками (лат. ) 103 А. Goldschmidt. Der Monforte-Altar des Hugo van der Goes. «Zeitschrift fur bildende Kunst». 1915. S. 221 ff. 104 L. Baldass. Mabuses Heilige Nacht, eine freie Kopie nach Hugo van der Goes // Jahrb. der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. Wien. Bd. 35. S. 34 ff. 105 Все живет (лат.) 106 L. Baldass. Ein Fruhwerk des Geertgen tot Sint Jans und die hollandische Malerei des XV Jahrunderts//Jahrbuch der Kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. Bd. 35. S. lff. 107 L. Baldass. Die Chronologie, der Gemalde des H. Bosch // Jahrb. der Kgl. Preu?. Kunsthist. Sammlungen, Bd. 38.1917. S. 177. 108 L. — Lehrs M. Geschichte und Kritischer Katalog des deutschen, niederlandischen und franzosischen Kupferstiches im 15. Jahrhunderts. 9 vols. Wien, 1908-1934. 109 Lafond. Hieronimus Bosch. Brussel, 1914. Taf. 62. То, что Босх вообще знал гравюры Шонгауэра, доказывает курьезное тропическое дерево, происходящее от шонгауэровского «Бегства в Египет» и находящееся на створке «Садов наслаждений» в Эскориале. 110 Следует сравнить сцены «Страстей" на задней стороне картины «Иоанн на острове Патмос» в Берлинском музее и «Ce человек» из собрания Кауфман (теперь во Франкфурте, музей Штеделя). Неслучайно, должно быть, и бросающееся в глаза сходство передней стороны картины в Берлине с изображением Иоанна на Патмосе у Шонгауэра (В. 55). 111 См. у Бальдасса в упомянутой выше статье. 112 Ср: Winkler. Uber verschollene Bilder der Bruder van Eyck // Jahrb. der preuss. Kustsamml. Bd. 37 (1916). S. 287; и мою статью о началах голландской живописи в 39 томе того же журнала. 113 Ср.: Riegl. Das hollandische Gruppenportrat // Jahrb. der Kunsthist. Sammlungen. Wien. Bd. 23. S. 71. 114 Зеркала человечества (лат. ). 115 Страх перед пустотой (лат. ) |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||