|
||||
|
|
Разряд II. Водяная, или водоплавающая, дичь ПРИСТУП К ОПИСАНИЮ ВОДЯНОЙ ДИЧИ Водяная птица — ближайшая соседка птице болотной; выводит детей если не в болотах, то всегда в болотистых местах, и потому я немедленно перехожу к ней, хотя она в общем разряде дичи, по своему достоинству, должна бы занимать последнее место. Длинный овал челнообразного стана, устройство всех членов тела, обилие пуха и перьев, покрытых тонким лаком, не пропускающим мокроту, ясно указывают, что назначение этой породы птиц — не только временное плаванье по воде, но даже постоянное на ней пребывание. Походка их медленна, тяжела, неловка, некрасива: лебедь, гусь и утка, когда идут по земле, ступают бережно, скользя и переваливаясь с одной стороны на другую, а утки-рыбалки почти лишены способности ходить; зато вода — их стихия! На воде они дома! Без всякого видимого движения, без всякого усилия, плавно, тихо, спокойно рассекают они поверхность воды во всех направлениях и поворотах, незаметно передвигая в воде свои перепончатые лапы: тут они и ловки и красивы. — Человек все это подметил, перенял и, начав с челнока, дошел до современного корабля. Теперь надобно взглянуть вообще на воды, о которых часто будет говориться в этом отделении. ВОДЫ Все хорошо в природе, но вода — красота всей природы. Вода жива; она бежит или волнуется ветром; она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Разнообразны явления вод, и непонятны законы этого разнообразия. Из вершины высокой, первозданной горы, сложенной из каменного дикого плитняка, бьет светлая, холодная струя, скачет вниз по уступам горы и, смотря по ее крутизне, образует или множество маленьких водопадов, или одно, много два, большие падения воды. Если она сжата каменьями, то гнется узкою лентою; если катится с плиты, то падает широким занавесом; если же поверхность горы не камениста и не крута, то вода выроет себе постоянное небольшое русло — и как все живо, зелено и весело вокруг него! Неизвестно, откуда возьмутся несвойственные горам травы, цветы, кусты и деревья, незабудки, дикий нарцисс, кукушкины слезки, тальник и березка. Нигде поблизости не растут они: но, видно, ветер везде разносит всякие семена, да только не везде они всходят и принимаются. Иногда на таких горных родниках, падающих с значительной высоты, ставят оренбургские поселяне нехитрые мельницы-колотовки, как их называют, живописно прилепляя их к крутому утесу, как ласточка прилепляет гнездо к каменной стене. Весь небольшой поток захватывается желобом, или колодою, то есть выдолбленною половинкою толстого дерева, которую плотно упирают в бок горы; из колоды струя падает прямо на водяное колесо, и дело в шляпе: ни плотины, ни пруда, ни вешняка, ни кауза… а колотовка постукивает да мелет себе помаленьку и день и ночь. Нет мелева — отодвигается колода в сторону, и поток снова летит вниз по крутизне горы, мгновенно собирая в один густой звук раздробленный шум своего падения. Мельничная амбарушка громоздится иногда очень высоко на длинном, неуклюжем срубе или кривых, неровных стойках. Все дрянно, плохо, косо, чуть липит. Нет признака искусной правильной руки человека, ничто не разноречит с природой, а напротив — дополняет ее… Но какие же паровые машины втягивают водяные жилы на горные высоты, тогда как вода, по свойству своему, занимает самое низкое место на земной поверхности? Удовлетворительно не объясняет этого явления и современная наука. Иногда такой ключ бьет из средины горы, а всего чаще из ее подошвы. Но есть родники совсем другого рода, которые выбиваются из земли в самых низких, болотистых местах и образуют около себя ямки или бассейны с водой, большей или меньшей величины, смотря по местоположению: из них текут ручьи. Если бассейн глубок, то кипение видно только на дне: вода выкидывается из его отверстий, вынося с собою песок и мелкие земляные частицы; прыгая и кружась, но далеко не достигая поверхности, они опускаются и устилают дно родника ровно и гладко. Но если бассейн мелок относительно силы ключа, то вся вода, с песком, землей и даже мелкими камушками, ворочается со дна доверху, кипит и клокочет, как котел на огне. И горные ключи и низменные болотные родники бегут ручейками: иные текут скрытно, потаенно, углубясь в землю, спрятавшись в траве и кустах; слышишь, бывало, журчанье, а воды не находишь; подойдешь вплоть, раздвинешь руками чащу кустарника или навес густой травы — пахнет в разгоревшееся лицо свежею сыростью, и, наконец, увидишь бегущую во мраке и прохладе струю чистой и холодной воды. Какая находка в жаркий летний день для усталого охотника! Иногда ручей бежит по открытому месту, по песку и мелкой гальке, извиваясь по ровному лугу или долочку. Он уже не так чист и прозрачен — ветер наносит пыль и всякий сор на его поверхность; не так и холоден — солнечные лучи прогревают сквозь его мелкую воду. Но случается, что такой ручей поникает, то есть уходит в землю, и, пробежав полверсты или версту, иногда гораздо более, появляется снова на поверхность, и струя его, процеженная и охлажденная землей, катится опять, хотя и ненадолго, чистою и холодною. Из многих таких ручейков составляются речки. Одна бежит по глубокому лесному оврагу, наливая попадающиеся на пути ямки и рытвины и образуя из них небольшие омуточки. Сломленные бурею и подмытые весеннею водою деревья местами преграждают ее течение, и, запруженная как будто плотиною, она разливается маленьким прудом, прибывая до тех пор, пока найдет себе боковой выход или, перевысив толщину древесного ствола, начнет переливать чрез него излишнюю, беспрестанно накопляющуюся воду, легким шумом нарушая тишину лесной пустыни. Всякая птица держится около воды, а рябчики, как говорят охотники, любят, сидя на деревьях, дремать под тихое журчанье лесной речки, в которой завелись уже и кутема и пеструшка, и выпрыгивают по вечерним зарям на поверхность воды, ловя толкущихся на ней мошек и сумеречных бабочек. Мне случалось заходить в такие лесистые, глухие овраги, и не скоро уходил я: там наверху еще жарко; летнее солнце клонится к западу, ярко освещены им до половины нагорные деревья, ветерок звучно перебирает листьями, а здесь, внизу, — густая тень, сумерки, прохлада, тишина. Другая речка бежит по ровной долине или по широкому лугу. Извилистые берега ее обрастают местами лозником, вербою и ольхою, а местами одною осокою и другими береговыми травами; дно ее ровно и гладко, и глубина почти везде одинакова. Около такой небольшой речки, смотря по местности и почве, нередко бывают довольно большие болота, поддерживаемые родниками и поросшие камышом, таловыми кустами и мелкими деревьями. На таких речках строят, если случаются берега повыше, незатейливые мельницы на один постав, редко на два. Небольшие пруды их, распространяя кругом мокроту и влажность, не только поддерживают прежние, но даже производят новые болота и мочежины, новые приюты и приволья для всякой дичи. Собственно о прудах я стану говорить после. Есть особенный вид рек, которые по объему текущей воды должно причислить к речкам, хотя при первом взгляде они могут показаться гораздо большей величины: это реки степные. Они состоят из цепи омутов (по-московски, бочагов) или небольших озер, очень глубоких и необыкновенно прозрачных, соединяющихся между собой перекатами, то есть мелкою речкою, иногда даже ручейком. Всегда поросшие особенною породой мягкого камыша и водяными лопухами, растущими и цветущими на всякой глубине, они бегут на перекатах довольно быстро, но в омутах почти не приметно никакого течения. Очень редко по берегам их растет мелкий кустарник. Если взглянуть на такую реку, извивающуюся по степи, с высокого места, что случается довольно редко, то представится необыкновенное зрелище: точно на длинном бесконечном снурке, прихотливо перепутанном, нанизаны синие яхонты в зеленой оправе, перенизанные серебряным стеклярусом: текущая вода блестит, как серебро, а неподвижные омуты синеют в зеленых берегах, как яхонты. Несколько речек, большей или меньшей величины, постепенно впадают одна в другую. Обильнейшая водою по праву, а счастливейшая иногда без всякого права, поглощая в себе имена других, удерживает свое собственное и продолжает течение уже многоводною и сильною рекою. Густая, разнообразная и обширная урема почти обыкновенно разрастается на ее берегах. Смотря по возвышенной или низменной местности, окрестности такой реки бывают сухи или болотисты. В последнем случае необозримые, бесконечные камыши, проросшие кустами и лесом, с озерами более или менее глубокими, представляют самые благонадежные, просторные и крепкие места для вывода и укрывательства с молодыми всякой птице и преимущественно водяной дичи. Иногда река на большое пространство протекает дремучими ненаселенными лесами и получает особенный, уединенный, дикий и вместе важный и торжественный образ. Берега ее не измяты ничьим прикосновением; изредка забредет на них охотник, но не оставит следов своих надолго: сильная растительность, происходящая от избытка влаги, сейчас поднимет смятые травы и цветы. Свободно и могуче обрастают берега ее широколистною и узкою осокою, аиром, палочником и крупными незабудками; а по всем затишьям — необыкновенной величины темно-зеленые круглые лопухи плавают уединенно на длинных стеблях своих, однообразно двигаясь течением реки. Водяная птица как будто боится уединения, и утки перестают жить и водиться на реках, когда они слишком далеко углубляются в лесную глушь. Рыба и земноводный зверь остаются их хозяевами. В пустынном безмолвии и мраке катятся вольные многоводные струи, и только ветви наклонившихся или упавших в воду столетних дерев, противясь течению, производят неумолкаемый, но тихий и глухой ропот. Плеснется большая щука, переплывет реку порешина (поречина), нырнет выхухоль — и только; но и этот слабый шум скоро поглощается общим безмолвием. Смотрится только в воду разнообразное чернолесье: липа, осина, береза и дуб, кладя то справа, то слева, согласно стоянию солнца, прямые или косые тени свои на поверхность реки… Из слияния многих таких полноводных рек составляются большие реки средней величины, как, например, всем известная Ока, Белая в Оренбургской губернии и множество других; из них-то, наконец, образуются реки первой величины, как Волга и Кама, из которых последняя немногим меньше первой, своей победительницы. Несмотря на огромное различие в обилии и силе вод, и те и другие реки имеют один уже характер: русло их всегда песчано, всегда углублено; сбывая летом, вода обнажает луговую сторону, и река катит свои волны в широко разметанных желтых песках, перебиваемых косами разноцветной гальки: следовательно, настоящие берега их голы, бесплодны и, по-моему, не представляют ничего приятного, отрадного взору человеческому. Конечно, нагорная, почти всегда правая по течению, сторона нередко богата живописными, величественными видами, но на них хорошо смотреть издали, на полотне или на бумаге. У всякого есть своя особенность: моя состоит в том, что я не люблю больших рек: и громадных, утесистых их берегов, и песчаных, печальных отмелей луговой стороны. Мне даже страшно смотреть на необъятную массу воды, так самовластно отделяющую меня от противоположного берега, через которую без опасности нельзя иногда и попасть на другую сторону. Волга же или Кама во время бури — ужасное зрелище! Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребнями и потопляемые, как щепки, суда — живы в моей памяти. Впрочем, я не стану спорить с любителями величественных и грозных образов и охотно соглашусь, что не способен к принятию грандиозных впечатлений. В отношении к охоте огромные реки решительно невыгодны: полая вода так долго стоит на низких местах, затопив десятки верст луговой стороны, что уже вся птица давно сидит на гнездах, когда вода пойдет на убыль. Весной, по краям разливов только, держатся утки и кулики, да осенью пролетные стаи, собираясь в дальний поход, появляются по голым берегам больших рек, и то на самое короткое время. Все это для стрельбы не представляет никаких удобств, В пролет же весенний Волга или Кама еще покрыты льдом, посиневшим, истрескавшимся, избитым в полыньи, но все еще неподвижно стоящим. Теперь остается поговорить об озерах; они не имеют течения, но тем не менее хороши. Озера бывают четырех родов: 1) Озера заливные, или просто небольшие ямы и впадины, наливающиеся в весеннее время по займищам рек полою водою, которая затопляет их совершенно; убывая в продолжение летних жаров, они нередко совсем высыхают. 2) Озера большей величины, также заливные или принимающие в себя каким-нибудь протоком полую воду, но имеющие, сверх того, свою собственную поддержку в родниках, открывающихся на дне и в берегах; из таких озер нередко излишек воды бежит ручейком или сочится длинною мокрединою. Такие озера постоянно имеют чистую, свежую, хотя и не холодную воду. Конечно, летние жары и засухи и в них производят убыль, но они от того не загнивают, кроме обыкновенного летнего цветения воды, которому подвержены все реки без исключения и которого начало приметно даже в самых быстротекущих студеных ключах. Распространяя вокруг себя влажность и растительность, зеленые берега таких озер иногда опушаются чивою ветлою и ольхою, иногда обрастают и камышами. 3) Озера лесные, имеющие вид мрачный и цвет темный, если берега их не болотисты, а сухи, если крупный лес со всех сторон плотною стеною обступает воду; окруженные же иногда на далекое пространство топкими, даже зыбкими болотами, на которых растет только редкий и мелкий лес, они имеют воду почти обыкновенного цвета. Темный цвет лесных озер, кроме того, что кажется таким от отражения темных стен высокого леса, происходит существенно от того, что дно озер образуется из перегнивающих ежегодно листьев, с незапамятных времен устилающих всю их поверхность во время осеннего листопада и превращающихся в черный, как уголь, чернозем, оседающий на дно; многие думают, что листья, размокая и разлагаясь в воде, окрашивают ее темноватым цветом. Наконец 4) озера степные, всегда значительной величины, самые чистые, светлые, красивые, лучшие из всех озер. Без сомнения, они имеют скрытые на дне родники, и весьма сильные, которые вознаграждают убыль, производимую испарением воды во время летних жаров и засух, убыль, которая в них бывает мало заметна. Присутствие родников в озерах доказывается и тем, что в некоторых местах и на известной глубине вода в них бывает гораздо холоднее. В Оренбургской губернии много таких озер; мне короче знакомы два чудесные озера, находящиеся в недальнем расстоянии одно от другого, в Белебеевском уезде: Кандры и Каратабынь; каждое из них имеет по нескольку десятков верст в окружности. Степные озера отличаются невероятною прозрачностью, превосходящею даже прозрачность омутов степных речек; и в последних вода бывает так чиста, что глубина в четыре и пять аршин кажется не глубже двух аршин; но в озерах Кандры и Каратабынь глубина до трех сажен кажется трех- или четырехаршинною; далее глубь начнет синеть, дна уже не видно, и на глубине шести или семи сажен все становится страшно темно! Преломление света в водах этих озер до того обманчиво, что во время купанья, идя от берега и постепенно погружаясь в глубину, кажется идешь на гору, и при каждом шаге поднимаешь ногу выше. Прелестные степные луга, оживляемые близостью огромной массы воды, окружают Кандры; глубина в десять сажен находится ближе к одной, несколько гористой стороне; посредине озера точно всплыл из воды небольшой, возвышенный, лесистый, зеленый островок: приют и место вывода детей для бесчисленных и разнообразных пород чаек. Две противоположные стороны — ровная степь, а четвертая сторона камышиста, и есть признак (длинная паточина по небольшому долочку), что тут был когда-то проток. Башкирцы сказывали мне, что старики их помнят, когда этим протоком Кандры соединялось с Каратабынью. Нынче и весной нет этого соединенья. У башкирцев даже есть какая-то легенда насчет будущего соединения этих озер, но я не мог достать ее. Впрочем, прибыль полой воды в степных озерах незначительна. Болотною и водяною дичью они не богаты; только позднею осенью отлетная птица в больших стаях гостит на них короткое время, как будто на прощанье; зато всякая рыба бель, кроме красной, то есть осетра, севрюги, стерляди и проч., водится в степных озерах в изобилии и отличается необыкновенным вкусом. Нельзя не упомянуть об озерах искусственных — прудах, о которых я сказал только мимоходом, но которые будут часто упоминаться в описании водяной дичи. Пруды бывают двух родов: проточные и копаные. Первые запружаются на реках, речках и ручьях, а вторые выкапываются предпочтительно на местах мокрых и низменных. Впрочем, около Москвы, где грунт по преимуществу глиняный, можно выкопать яму где угодно, даже на горе, — снеговая и дождевая вода будет стоять в ней круглый год, как в фаянсовой чашке. Есть средство устраивать пруды особенным способом, захватив полую воду, текущую обыкновенно весной по какому-нибудь оврагу или долочку, в которых летом не бывает капли воды; в это летнее время перегораживают поперек овраг или долочек — выкопав его, если надобно, поглубже — крепкою плотиною с прочно устроенным спуском, а иногда и без спуска, для стока полой воды; весною она наполнит овраг или выкопанный дол, а излишняя вода пойдет стороною, или через верх, или в поднятые затворы спуска, который запирается наглухо, когда станет сходить водополье. Такие пруды бывают иногда очень глубоки; их нельзя назвать совершенно стоячими, глухими: хотя один раз в году, а все же вода в них переменяется, но относительно к птице о них не стоит говорить. Пруды проточные на порядочных реках, поднимающих мельницы от четырех до восьми поставов, с широкими, всегда камышистыми разливами, сквозь проросшие, по мелководью, разными водяными травами и цветами, имеющие в протяжении несколько верст, — вот истинное раздолье для всякой водяной птицы, которая сваливается на такие пруды со всех сторон. Сытно и безопасно в камышах утиным выводкам всех пород, а также цыплятам речных водяных кур, или лысух. В камышах не проглотит утенка жадная щука, не унесет цыпленка коршун или скопа, которую называют водяным орлом и которая преимущественно питается рыбою. Хищной птице нужен свет и простор, а в камыше тесно и темно. Напрасно скопа, балабан (род сокола) вместе с коршунами и канюками по целым часам то плавают в небесах широкими кругами, то неподвижно висят над прудом. Они слышат пискотню молодых и покрякиванье маток, слышат шелест камыша, даже видят, как колеблются его верхушки от множества пробирающихся в тростнике утят, а нельзя поживиться добычей: «глаз видит, да зуб неймет!» Хищные птицы не бросаются за добычей в высокую траву или кусты: вероятно, по инстинкту, боясь наткнуться на что-нибудь жесткое и острое или опасаясь помять правильные перья. Но если какой-нибудь глупенький, отбившийся от выводки и матери утенок или цыпленок, услыша издалека зов ее, вздумает переплыть материк или не заросшую травой заводь, то гибель ждет его и сверху и снизу: в воде широкое горло щуки или сома, на поверхности — длинные когти хищных птиц. Вот как разнообразны еще не во всех видах и не в подробности описанные мною воды. На них-то плавает, ныряет, живет водяная дичь. Итак, обращаюсь к ней. 1. ЛЕБЕДЬ[20] Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водяной, или водоплавающей, птицы. Белый, как снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинною, гибкою и красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей, гладкой поверхности воды. Но и все его движения исполнены прелести: начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, поднимет голову вверх и вытянет шею; начнет ли купаться, нырять и плескаться своими могучими крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, скатывающейся с его пушистого тела; начнет ли потом охорашиваться, легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя носом на спине, боках и в хвосте смятые или замаранные перья; распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус, и начнет также носом перебирать в нем каждое перо, проветривая и суша его на солнце, — все живописно и великолепно в нем. Лебеди прилетают почти всегда попарно; появляются весной довольно рано, в начале апреля, когда по большей части все еще бывает покрыто снегом. Лебединых стай я не видывал: в тех местах Оренбургской губернии, где я постоянно охотился, лебеди бывают только пролетом, а постоянно не живут и детей не выводят, и для меня появление их не во время пролета было редкостью. Разве иногда нескольким холостым лебедям, шатающимся по большим прудам и озерам, понравится какое-нибудь привольное место у меня в соседстве, и они, если не будут отпуганы, прогостят на нем недели две или более. Я помню в молодости моей странный случай, как на наш большой камышистый пруд, середи уже жаркого лета, повадились ежедневно прилетать семеро лебедей; прилетали обыкновенно на закате солнца, ночевали и на другой день поутру, как только народ просыпался, начинал шуметь, ходить по плотине и ездить по дороге, лежащей вдоль пруда, — лебеди улетали. Откуда прилетали и куда улетали — не знаю. Так продолжалось около двух недель. Наконец, один старый охотник, зарядив свое дрянное, веревочкой связанное ружьишко за неимением свинцовой картечи железными жеребьями, то есть кусочками изрубленного железного прута, забрался в камыш прежде прилета лебедей и, стоя по пояс в воде, дождался, когда они подплыли к нему на несколько сажен, выстрелил и убил одного лебедя наповал. Разумеется, остальные сейчас улетели, но на другой день опять прилетели в урочный час, сели на середину пруда, поплавали, не приближаясь к опасному камышу, погоготали между собой, собрались в кучку, поднялись, улетели и не возвращались. Осеннего пролета лебедей я не замечал совсем. Многие охотники сказывали мне, что лебеди не только постоянно живут, но и выводят детей в разных уездах Оренбургской губернии и особенно по заливным, волжским озерам начиная от Царицына до Астрахани; что гнезда вьют они в густых камышах; что лебедь разделяет с лебедкою все попечения о детях, что молодых у них бывает только по два (а другие уверяют, будто по три и по четыре) и что по волжским рукавам, при впадении этой реки в море, лебеди живут несчетными стадами. Ничего этого не утверждаю, а за что купил, за то и продаю. Что касается до меня, то я каждый год видал по нескольку раз лебедей, по большей части в недосягаемой вышине пролетавших надо мною; видал их и плавающих по озерам, но всегда неожиданно и в таком расстоянии, что не только гусиною дробью, но и картечью стрелять было невозможно; а иногда и стрелял, но выстрел мой скорее мог назваться почетным салютом, чем нападением врага. Впрочем, один раз в моей жизни, когда я бродил по колени в разливе реки Бугуруслана, между частыми кустами, налетел на меня лебедь довольно близко; я ударил его обыкновенною утиною дробью: лебедь покачнулся, пошел книзу и улетел из виду. На другой день мордвин соседней деревушки нашел его мертвым за версту от того места, где я стрелял. Мясо его было так жестко, что, несмотря на предварительное двухдневное вымачиванье, его трудно было разжевать. Вкус походил на дикого гуся, но гусь гораздо мягче, сочнее и вкуснее. В зобу его не было рыбы и почти никакой пищи. Чем питаются лебеди, ничего сказать не могу, но, вероятно, одинаким кормом со всею водяною птицею. Не понимаю, отчего лебедь считался в старину лакомым или почетным блюдом у наших великих князей и даже царей; вероятно, знали искусство делать его мясо мягким, а мысль, что лебедь служил только украшением стола, должна быть несправедлива. Лебедь живет в старинных наших песнях, очевидно сложенных на юге России, живет также до сих пор в народной речи, хотя там, где теперь обитает настоящая Русь, лебедь не мог войти ни в песню, ни в речь, — так мало знает и видит его народ. На юге, в Киеве, попал он в народные песни и на великокняжеские столы; его рушала, то есть разрезывала, сама великая княгиня, следовательно лебедя ели. Вероятно, оттуда, по преданию и старому обычаю, перебрался он на столы великих князей и царей московских и в народную современную речь, где слова лебедка и лебедушка остались навсегда выражением ласки и участия. Про силу лебедя рассказывают чудеса: говорят, что он ударом крыла убивает до смерти собаку, если она приблизится к нему, легко раненному, или бросится на его детей. Мне даже называли охотника, которому лебедь переломил руку таким же ударом крыла. Судя по его величине, крепости и силе мускулов, толщине и жесткости костей и перьев, этим рассказам поверить можно. Пенья лебедей, разумеется, никто не слыхал, но зычный крик их и глухое гоготанье, весьма отличное от гусиного, слыхали все охотники, и в том числе я сам. Из всего сказанного мною о силе лебедей можно заключить, как они должны быть крепки к ружью. Где они постоянно водятся, там бьют их нулем, или безымянкой, и картечью, и то подкрадываясь поближе. Лебедей стреляют не для мяса, а для пуху, первоклассное достоинство которого известно всем. Лебеди легко делаются ручными. Я сам видел их несколько годов сряду, живущих лето на отведенном им пруду, а зиму проводящих в теплой избе. Не могу только хорошенько сказать: маленькими или большими были они пойманы. Я слышал, что ручные лебеди выводят детей, как обыкновенные гуси, в избах и хлевах, но что для этого нужно достать сначала свежих лебединых яиц и подложить под гусыню. Высиженные ею лебедята вырастают в стае домашних гусей (первый год с подрезанными крыльями), делаются совершенно ручными и ведутся, как дворовые гуси. 2. ГУСЬ Серым гусем называют его старинные русские песни, и называют верно. Дикий гусь точно сер и отличается от гусыни только тем, что спина его потемнее, грудь, или зоб, покрыта черноватыми пятнышками, и сам он несколько поменьше. Дворовые русские гуси, по большей части белые или пегие, бывают иногда совершенно похожи пером на диких, то есть на прежних самих себя. Вся разница состоит в том, что вообще у русских гусей нос и ноги красноваты, и сами они потолще, пообъемистее; дикие же гуси подбористее, складнее, щеголеватее, а нос и лапки их желтовато-зеленоватого цвета. Весною, пролетом, гуси показываются очень рано; еще везде, бывало, лежит снег, пруды не начинали таять, а стаи гусей вдоль по течению реки летят да летят в вышине, прямо на север. Стаи всегда пролетают очень высоко, но гуси парами или в одиночку летят гораздо ниже. Ежедневно шатаясь около пруда и бродя вдоль реки, которая у нас очень рано очищалась от льда, я всегда имел один ствол, заряженный гусиною дробью, и мне не один раз удавалось спустить на землю пролетного гостя. Когда же время сделается теплее, оттают поля, разольются полые воды, стаи гусей летят гораздо ниже и спускаются на привольных местах: отдохнуть, поесть и поплавать. Пища гусей преимущественно состоит из мелкой молодой травы, семян растений и хлебных зерен. Гуси очень жадны. Когда корм приволен, то они до того обжираются, что не могут ходить: зоб перетягивает все тело; даже с трудом могут летать. Весною гуси бывают очень сторожки и редко подпускают охотника с подъезда и еще реже с подхода. Надобно отыскивать благоприятную местность, из-за которой можно было бы подкрасться к ним поближе. Местность эта может быть: лес, кусты, пригорок, овраг, высокий берег реки, нескошенный камыш на прудах и озерах. Нечего и говорить, что стрелять надобно самою крупною дробью, безымянкой; даже не худо иметь в запасе несколько картечных зарядов, чтоб пустить в стаю гусей, к которой ни подойти, ни подъехать, ни подкрасться в меру нет возможности. Очень весело на дальнем расстоянии вырвать из станицы чистого пером, сытого телом прилетного гуся! Пошатавшись по хлебным полям, кое-где сохранившим насоренные еще осенью зерна, наплававшись по разливам рек, озер и прудов, гуси разбиваются на пары и начинают заботиться о гнездах, которые вьют всегда в самых крепких и глухих камышистых и болотистых уремах, состоящих из таловых кустов ольхи и березы, обыкновенно окружающих берега рек порядочной величины; я разумею реки, текущие по черноземной почве. Я не один раз нахаживал гусиные гнезда и всегда в таких непроходимых местах, что сам, бывало, удивишься, как попал туда. Гнездо обыкновенно кладется на сухом месте или на высокой кочке, просторное и круглое, свивается из сухой травы и устилается перышками и пухом, нащипанными гусыней из собственной хлупи. Охотники говорят, что яиц бывает до двенадцати, но я более девяти не нахаживал. Они совершенно похожи на яйца русских гусей, разве крошечку поменьше и не так белы, а светло-дикого, неопределенного цвета. Во время сиденья гусыни на яйцах гусь разделяет ее заботу: я сам спугивал гуся с гнезда и много раз нахаживал обоих стариков[21] с выводками молодых. История высиживания яиц у диких гусей, как и у всякой птицы, выводящей детей один раз в год, оканчивается в исходе мая или в начале июня: все исключения бывают следствием какого-нибудь несчастного случая, погубившего первые яйца. В местах привольных, то есть по хорошим рекам с большими камышистыми озерами, можно и в это время года найти порядочные станицы гусей холостых: они обыкновенно на одном озере днюют, а на другом ночуют. Опытный охотник все это знает, или должен знать, и всегда может подкрасться к ним, плавающим на воде, щиплющим зеленую травку на лугу, усевшимся на ночлег вдоль берега, или подстеречь их на перелете с одного озера на другое в известные часы дня. Молодые гусята вылупляются из яиц, покрытые серо-желтоватым пухом; они скоро получают способность плавать, нырять, и потому старики немедленно переселяют свою выводку на какую-нибудь тихую воду, то есть на озеро, заводь или плесо реки, непременно обросшей высокой травою, кустами, камышом, чтобы было где спрятаться в случае надобности. Мне рассказывали многие, что гусыня перетаскивает на воду поочередно за шею каждого гусенка, если вода далеко от гнезда или местность так неудобопроходима, что гусенку и пролезть трудно. Я этого не оспариваю, но должен сказать, что и самые маленькие гусята очень бойки и вороваты и часто уходили у меня из глаз в таких местах, что поистине надобно иметь много силы, чтоб втискаться и даже бегать в густой чаще высокой травы и молодых кустов. Впрочем, надобно вспомнить, что это переселение бывает немедленно после вылупления гусят и они должны быть еще в то время очень слабы. Когда молодые подрастут в полгуся и больше и даже почти оперятся, только не могут еще летать,[22] что бывает в исходе июня или начале июля, — охотники начинают охотиться за молодыми и старыми, линяющими в то время, гусями и называющимися подлинь. Но до этой охоты я никогда не был охотник, ибо ее можно производить и без ружья с приученными к такой ловле собаками. Охотнику приходится стрелять только тех молодых и старых гусей, которых собаки выгонят на реку или озеро, что бывает не часто: гусь подлинь и молодые гусята крепко и упорно держатся в траве, кустах и камышах, куда прячутся они при всяком шуме, при малейшем признаке опасности. Только совершенная крайность, то есть близко разинутый рот собаки, может заставить старого линючего гуся или совсем почти оперившегося гусенка, но у которого еще не подросли правильные перья в крыльях, выскочить на открытую поверхность воды. Боже мой, какой крик и шлепотню поднимают они своими отяжелевшими папоротками от налитых кровью толстых пеньков! Как неловки бывают в это время все их движения! Даже ныряют они так нелепо, что всегда виден не погрузившийся в воду зад! Разумеется, тут весьма удобно бить их из ружья и ненадобно употреблять крупной дроби: они тогда очень слабы, и всего пригоднее будет дробь 5-го нумера. Впрочем, привычные собаки, даже дворняжки, без помощи ружья наловят их довольно. Старые гуси во время этого болезненного состояния бывают худы, и мясо их становится сухо и невкусно, а мясо молодых, напротив, очень мягко, и хотя они еще не жирны, но многие находят их очень вкусными. Наконец, подросли, выровнялись, поднялись гусята и стали молодыми гусями; перелиняли, окрепли старые, выводки соединились с выводками, составились станицы, и начались ночные, или, правильнее сказать, утренние и вечерние экспедиции для опустошения хлебных полей, на которых поспели не только ржаные, но и яровые хлеба. За час до заката солнца стаи молодых гусей поднимаются с воды и под предводительством старых летят в поля. Сначала облетят большое пространство, высматривая, где им будет удобнее расположиться подальше от проезжих дорог или работающих в поле людей, какой хлеб будет посытнее, и, наконец, опускаются на какую-нибудь десятину или загон. Гуси предпочтительно любят хлеб безосый, как-то: гречу, овес и горох, но если не из чего выбирать, то едят и всякий. Почти до темной ночи изволят они продолжать свой долгий ужин; но вот раздается громкое призывное гоготанье стариков; молодые, которые, жадно глотая сытный корм, разбрелись во все стороны по хлебам, торопливо собираются в кучу, переваливаясь передами от тяжести набитых не в меру зобов, перекликаются между собой, и вся стая с зычным криком тяжело поднимается, летит тихо и низко, всегда по одному направлению, к тому озеру, или берегу реки, или верховью уединенного пруда, на котором она обыкновенно ночует. Прилетев на место, гуси шумно опускаются на воду, распахнув ее грудью на обе стороны, жадно напиваются и сейчас садятся на ночлег, для чего выбирается берег плоский, ровный, не заросший ни кустами, ни камышом, чтоб ниоткуда не могла подкрасться к ним опасность. От нескольких ночевок большой стаи примнется, вытолочется трава на берегу, а от горячего их помета покраснеет и высохнет. Гуси завертывают голову под крыло, ложатся, или, лучше сказать, опускаются на хлупь и брюхо, и засыпают. Но старики составляют ночную стражу и не спят поочередно или так чутко дремлют, что ничто не ускользает от их внимательного слуха. При всяком шорохе сторожевой гусь тревожно загогочет, и все откликаются, встают, выправляются, вытягивают шеи и готовы лететь; но шум замолк, сторожевой гусь гогочет совсем другим голосом, тихо, успокоительно, и вся стая, отвечая ему такими же звуками, снова усаживается и засыпает. Так бывает не один раз в ночь, особенно уже в довольно длинные сентябрьские ночи. Если же тревога была не пустая, если точно человек или зверь приблизится к стае — быстро поднимаются старики, и стремглав бросаются за ними молодые, оглашая зыбучий берег и спящие в тумане воды и всю окрестность таким пронзительным, зычным криком, что можно услышать его за версту и более… И вся эта тревога бывает иногда от хорька и даже горностая, которые имеют наглость нападать на спящих гусей. Когда же ночь проходит благополучно, то сторожевой гусь, едва забелеет заря на востоке, разбудит звонким криком всю стаю, и она снова, вслед за стариками, полетит уже в знакомое поле и точно тем же порядком примется за ранний завтрак, какой наблюдала недавно за поздним ужином. Снова набиваются едва просиженные[23] зобы, и снова по призывному крику стариков, при ярких лучах давно взошедшего солнца, собирается стая и летит уже на другое озеро, плесо реки или залив пруда, на котором проводит день. Плохо хозяину, который поздно узнает о том, что гуси повадились летать на его хлеб; они съедят зерна, лоском положат высокую солому и сделают такую толоку, как будто тут паслось мелкое стадо. Если же хозяин узнает вовремя, то разными средствами может отпугать незваных гостей. Я стреливал гусей во всякое время: дожидаясь их прилета в поле, притаясь в самом еще не вымятом хлебе, подстерегая их на перелете в поля или с полей, дожидаясь на ночлеге, где за наступившею уже темнотою гуси не увидят охотника, если он просто лежит на земле, и, наконец, подъезжая на лодке к спящим на берегу гусям, ибо по воде можно подплыть так тихо, что и сторожевой гусь не услышит приближающейся в ночном тумане лодки. Разумеется, во всех этих случаях нельзя убить гусей много, стрелять приходится почти всегда в лет, но при удачных выстрелах из обоих стволов штуки три-четыре вышибить из стаи можно. Можно также подъезжать к гусиным станицам или, смотря по местности, подкрадываться из-за чего-нибудь, когда они бродят по сжатым полям и скошенным лугам, когда и горох и гречу уже обмолотили и гусям приходится подбирать кое-где насоренные зерна и даже пощипывать озимь и молодую отаву. Можно также довольно удачно напасть на них в полдень, узнав предварительно место, где они его проводят. В полдень гуси также спят, сидя на берегу, и менее наблюдают осторожности; притом дневной шум, происходящий от всей живущей твари, мешает сторожевому гусю услышать шорох приближающегося охотника: всего лучше подъезжать на лодке, если это удобно. В продолжение всей осенней охоты за гусями надобно употреблять дробь самую крупную и даже безымянку; осенний гусь не то, что подлинь: он делается очень силен и крепок к ружью. Он жестоко дерется крыльями, и мне случалось видеть, что гусь с переломленным крылом давал такой удар собаке крылом здоровым, что она долго визжала и потом нескоро решалась брать живого гуся. К концу сентября, то есть ко времени своего отлета, гуси делаются очень жирны, особенно старые, но, по замечанию и выражению охотников, тогда только получают отличный вкус, когда хватят ледку, что, впрочем, в исходе сентября у нас не редкость, ибо от утренних морозов замерзают лужи и делаются закраины по мелководью около берегов на прудах и заливах. От ледку или от чего другого, только чем позднее осень, тем вкуснее становится гусь. Это истина несомненная, а надобно заметить, что сытного корма в это время становится уже мало. Должно сказать правду, что стрельба диких гусей более дело добычливое, чем охотничье, и стрелок благородной болотной дичи не может ее уважать. К гусям надобно по большей части подкрадываться, иногда даже подползать или караулить их на перелете, — все это не нравится настоящему охотнику; тут не требуется искусства стрелять, а надо много терпенья и неутомимости. Я сам занимался этой охотой только смолоду, когда управляли моей стрельбой старики-охотники, для которых бекас был недоступен и, по малости своей, презрителен, которые на вес ценили дичь. Настоящие охотники собственно за гусями не ходят, а, разумеется, бьют их и даже с удовольствием, когда они попадутся нечаянно. Я сказал, что гуси летают в хлеба и назад возвращаются всегда по одной и той же воздушной дороге, то есть через один и тот же перелесок, одним и тем же долочком и проч. На этом основании изобретены перевесы, посредством которых ловят их в большом количестве. Это не что иное, как огромная квадратная сеть из толстых крепких ниток, ячеи или петли которой так широки, что гуси вязнут в них, а пролезть не могут. Эта сеть развешивается между двумя длинными шестами на том самом месте, по которому обыкновенно гусиная стая поздно вечером, почти ночью, возвращается с полей на ночевку. К верхним концам шестов привинчены железные кольца; сквозь них продеты веревочки. Посредством этих веревочек, прикрепленных к двум верхним углам сети, поднимается она во всю вышину шестов, концы же веревочек проведены в шалаш или куст, в котором сидит охотник. Сеть не натягивается, а висит, и нижние концы ее на слаби привязаны к шестам. Когда попадут гуси и натянут сеть, охотник бросает веревочки, и вся стая запутавшихся гусей вместе с сетью падает на землю. Таким же способом ловят и уток. Замечательно, что гуси, не запутавшиеся в перевесе, а только в него ударившиеся, падают на землю и до того перепугаются, что кричат, хлопают крыльями, а с места не летят: без сомнения, темнота ночи способствует такому испугу. Иногда ставят два и три перевеса рядом, неподалеку друг от друга, чтобы случайное уклонение от обычного пути не помешало стае гусей ввалиться в сеть. Есть особой породы гусь, называемый казарка; он гораздо меньше обыкновенного дикого гуся, носик у него маленький, по сторонам которого находятся два копьеобразные пятнышка, а перья почти черные. В некоторых южных уездах Оренбургской губернии охотники встречают их часто во время пролета и даже бьют; мне же не удалось и видеть. В большое недоумение приводило меня всегда их имя, совпадающее с именем козар. 3. УТКИ Породы уток многочисленны и разнообразны. Я стану говорить только о тех, которые мне более или менее коротко известны. Оренбургская губерния по своему географическому положению и пространству, заключая в себе разные и даже противоположные климаты и природы, гранича к северу с Вятскою и Пермскою губерниями, где по зимам мерзнет ртуть, и на юг с Каспийским морем и Астраханскою губерниею, где, как всем известно, растут на открытом воздухе самые нежные сорты винограда, — представляет полную возможность разнообразию явлений всех царств природы и между прочим разнообразию утиных пород, особенно во время весеннего пролета. Но я не стану говорить об утках собственно пролетных: это завело бы меня слишком далеко и при всем том дало бы моим читателям слабое и неверное понятие о предмете. Пролетные утки не то, что пролетные кулики: кулики живут у нас недели по две и более весной и от месяца до двух осенью, а утки бывают только видимы весной, никогда осенью и ни одного дня на одном месте не проводят. Охотникам достаются они как случайная редкость. Итак, говорить о виденных мною вскользь диковинных утках и о рассказах охотников я считаю излишним. Я расскажу только об одной замечательной утке, которую я убил, еще будучи очень молодым охотником, а лет через десять потом убил точно такую же мой товарищ охотник, и я рассмотрел ее подробно и внимательно. Она была несколько больше самой крупной дворовой утки; перья имела светло-коричневого цвета, испещренные мелкими темными крапинками; глаза и лапки красные, как киноварь, а верхнюю половинку носа — окаймленную такого же красного цвета узенькою полоскою; по правильным перьям поперек крыльев лежала голубовато-сизая полоса; пух был у ней розовый, как у дрофы и стрепета, а жир и кожа оранжевого цвета; вкус ее мяса был превосходный, отличавшийся от обыкновенного утиного мяса; хвост длинный и острый, как у селезня шилохвости, но сама она была утка, а не селезень. — Приступая к описанию уток, считаю необходимым поговорить о той исключительности, которою утки отличаются от других птиц и которая равно прилагается ко всем их породам. Весьма понятно, что там, где совокупление происходит на токах, на общих сборищах, — ни самцы, ни самки не могут питать личной взаимной любви: они не знают друг друга; сегодня самец совокупляется с одною самкой, а завтра с другою, как случится и как придется; точно так же и самка. Из этого необходимо следует, что они никогда не разбиваются на пары, что только одна мать, без всякой помощи самца, должна заботиться об устройстве гнезда, высиживанье яиц и сбереженье детей, ибо где нет супружества, там нет и отца. В противоположность тому, во всех породах птиц, разделяющихся на пары, и самец и самка, как муж и жена, вместе заботятся о выводе и сохранении детей и равную оказывают им горячность. Этот закон, очевидно, положительно и неуклонно исполняется всеми птицами. Одни только породы уток представляют резкое противоречие. Все утки разделяются на пары ранее другой дичи; селезень показывает постоянно ревнивую и страстную, доходящую до полного самоотвержения, любовь к утке и в то же время — непримиримую враждебность и злобу к ее гнезду, яйцам и детям! Утка принуждена выполнять все обязанности матери тайно от селезня. Если он найдет гнездо ее с яйцами или только что вылупившимися утятами, то гнездо разроет и растаскает, яйца выпьет (как говорят) или по крайней мере перебьет, а маленьких утят всех передушит. Я сам не видал, как селезень совершает такие неистовства, но другие охотники видали. Укрывательство же утки от селезня, его преследованье, отыскиванье, гнев, наказанье за побег и за то, если утка не хочет лететь с ним в другие места или отказывает ему в совокуплении, — разоренные и растасканные гнезда, разбитые яйца, мертвых утят около них, — все это я видел собственными моими глазами не один раз. Кажется, этого достаточно, чтоб остальное, слышанное мною, хотя не виденное, принять за несомненную истину. Противоестественные, по-видимому, поступки селезней должно объяснять, по моему мнению, до невероятности горячею их чувственностью; отсюда происходит и ненависть ко всему тому, что отвлекает от них уток. Во всех породах дичи все самцы, живущие с самками попарно, оказывают к ним привязанность, а в породах голубей — даже нежность и ласку; но такого бешеного сладострастия, каким отличаются селезни, совершенно нет; зато и самец и самка равно привязаны к детям. Некоторые охотники подозревают косачей, которые тоже на токах доходят до исступления, в разорении гнезд тетеревиных курочек, но я решительно ничего похожего не замечал. Самцы дупельшнепы также очень горячатся на токах, но отчего же их никто не подозревает в подобных проделках? По моему мнению, это подозрение уже потому несправедливо, что тетерева не разбиваются на пары, следственно у самцов нет побудительной причины разорять гнезда; самки, не будучи их дружками-женами, к ним от того не воротятся. Селезень, напротив, разорив гнездо своей утки, получает ее опять в полное владение, и она не расстается с ним ни на одну минуту до тех пор, покуда вновь не затеет гнезда, вновь не скроется от селезня и не сядет на яйца. Можно даже предположить, что иной утке совсем не удастся вывесть детей в продолжение целого лета, потому-то каждому охотнику и случается встречать в июне, даже в начале июля, до самой линевки, уток парами. а) КРЯКОВНАЯ УТКА  Мы выговариваем обыкновенно не кря, а криковный селезень, криковная утка, что, впрочем, весьма идет к ней, ибо она кричит громче всех утиных пород. Ее зовут также кряквой и крякушей … Очевидно, все три названия происходят от слова крякать, вполне выражающего голос, или крик, утки. По-малороссийски утка называется качка. Имя тоже очень выразительное: идет ли утка по земле — беспрестанно покачивается то на ту, то другую сторону; плывет ли по воде во время ветра — она качается, как лодочка по волнам. По совершенному сходству в статях и отчасти даже в перьях должно полагать, что дворовые, или домашние, утки произошли от породы кряковных; везде можно найти посреди пегих, разнопестрых, белых стай русских уток некоторых из них, совершенно схожих пером с дикими кряковными утками и даже селезнями, а различающихся только какими-нибудь небольшими отступлениями, найдется великое множество; с другими же дикими породами уток дворовые, или русские, в величине и перьях сходства имеют гораздо менее. Это обстоятельство довольно странно. По-видимому, нет никаких причин, почему бы и другим утиным породам не сделаться домашними, ручными? — Кряква крупнее всех диких уток. Селезень красив необыкновенно; голова и половина шеи у него точно из зеленого бархата с золотым отливом; потом идет кругом шеи белая узенькая лента; начиная от нее, грудь или зоб темно-багряный; брюхо серо-беловатое с какими-то узорными и очень красивыми оттенками; в хвосте нижние перышки белые, короткие и твердые; косички зеленоватые и завиваются колечками; лапки бледно-красноватые, нос желто-зеленого цвета. На темных крыльях лежит синевато-вишневая золотистая полоса; спина темноватого цвета, немного искрасна; над самым хвостом точно как пучок мягких темно-зеленых небольших перьев. Утка вся пестренькая: по светло-коричневому полю испещрена темными продольными крапинками; на правильных перьях блестит зеленая, золотистая полоса, косиц в хвосте нет; лапки такие же красноватые, как у селезня, а нос обыкновенного рогового цвета. Весною стаи кряковных уток прилетают еще в исходе марта, ранее других утиных пород, кроме нырков; сначала летят огромными стаями, полетом ровным и сильным, высоко над землею, покрытою еще тяжелою громадою снегов, едва начинающих таять. Потом, когда дружная весна быстро, в одну неделю иногда, переменит печальную картину зимы на веселый вид весны, когда везде побегут ручьи, образуются лужи и целые озера воды, разольются реки, стаи кряковных уток летят ниже и опускаются на места, которые им понравятся. В это время стрелять их очень трудно, потому что они дики и сторожки и не подпускают близко ни конного, ни пешего. Скорее убьешь крякву как-нибудь в лет, особенно поздно вечером, когда стаи летят гораздо ниже или перелетают с одной лужи на другую. Эта стрельба называется стойкою на местах. Места подразумеваются такие, через которые всегда бывает перелет птицы; но это длится недолго: скоро утки разобьются на маленькие стайки, попривыкнут, приглядятся и присмиреют. Тогда можно к ним подъезжать с осторожностью на простой телеге или охотничьих дрожках, которые не что иное, как укороченные и прочнее сделанные крестьянские роспуски, или чувашский тарантас без верха. Для стрельбы надобно употреблять крупную утиную дробь 2-го и 3-го нумеров, а если птица дика, то и гусиную можно пустить в дело. С подхода в это время стрельбы нет, потому что утки сидят на открытых местах целыми стаями. Но весна становится час от часу теплее, и полая вода сливает. Небольшие стаи кряковных уток окончательно разбиваются на пары, понимаются[24] и делаются смирнее, особенно потому, что подрастет трава и уткам можно прятаться в ней. Селезень, сладострастнейший из самцов, не отходит от утки ни на шаг, не разлучается с ней ни на минуту, ни за что прежде ее первый не слетит с места. Иногда утка полощется в какой-нибудь луже или щелочет носом в жидкой грязи, а селезень, как часовой, стоит на берегу или на кочке; охотник подъезжает к нему в меру, но утка не видит или не замечает ничего; селезень пошевеливается, повертывается, покрякивает, как будто подает ей голос, ибо видит опасность, но утка не обращает внимания; один он не летит прочь, — и меткий выстрел убивает его наповал. Утка улетает, не показывая никакого участия к убитому селезню. Совсем другое бывает, когда охотник как-нибудь убьет утку (хотя он всегда выбирает селезня): селезень не только будет летать кругом охотника, не налетая, впрочем, слишком близко, но даже несколько дней сряду станет колотиться около того места, где потерял дружку. В это время уже не трудно подъезжать к рассеянным парам кряковных уток и часто еще удобнее подходить или подкрадываться из-за чего-нибудь: куста, берега, пригорка, ибо утка, замышляющая гнездо или начавшая нестись, никогда не садится с селезнем на открытых местах, а всегда в каком-нибудь овражке, около кустов, болота, камыша или некошеной травы: ей надобно обмануть селезня, несмотря на его бдительность; надобно спрятаться, проползти иногда с полверсты, потом вылететь и на свободе начать свое великое дело, цель, к которой стремится все живущее. Для достижения этой цели утка употребляет разные хитрости. Почувствовав во внутренности своей полноту и тяжесть от множества в разное время оплодотворенных семян, сделавшихся крошечными желтками, из коих некоторые значительно увеличились, а крупнейшие даже облеклись влагою белка и обтянулись мягкою, но крепкою кожицей, — утка приготовляет себе гнездо в каком-нибудь скрытном месте и потом, послышав, что одно из яиц уже отвердело и приближается к выходу, утка всегда близ удобного к побегу места, всего чаще на луже или озере, присядет на бережок, заложит голову под крыло и притворится спящею. Селезень присядет возле нее и заснет в самом деле, а утка, наблюдающая его из-под крыла недремлющим глазом, сейчас спрячется в траву, осоку или камыш; отползет, смотря по местности, несколько десятков сажен, иногда гораздо более, поднимется невысоко и, облетев стороною, опустится на землю и подползет к своему уже готовому гнезду, свитому из сухой травы в каком-нибудь крепком, но не мокром, болотистом месте, поросшем кустами; утка устелет дно гнезда собственными перышками и пухом, снесет первое яйцо, бережно его прикроет тою же травою и перьями, отползет на некоторое расстояние в другом направлении, поднимется и, сделав круг, залетит с противоположной стороны к тому месту, где скрылась; опять садится на землю и подкрадывается к ожидающему ее селезню. Редко случается застать его спящим; по большей части селезень просыпается во время отсутствия утки, которое иногда продолжается более часа. Проснувшись, он начинает беспокойно звать свою дружку, торопливо озираясь и порывисто плавая по озерку или луже; потом бросится искать ее кругом около берега, но далеко не отходит, а беспрестанно ворочается посмотреть: не воротилась ли утка, не плывет ли к нему по воде… что иногда случается. Утомясь своими тщетными поисками, селезень перестает искать утку и начинает плавать взад и вперед, беспрестанно оглядываясь и покрякивая; плавает до тех пор, пока в самом деле внезапно, бог знает как, откуда, воротится его дружка. С яростию бросается он навстречу беглянке, вцепляется носом в шею, вскакивает ей на спину и в ту же минуту, тут же на воде, совокупляется с нею… Едва успеет утка, измятая любовными ласками, оправиться, отряхнуться, выйти на берег, как новый припадок сладострастия нападает на селезня, он вновь совокупляется со своею супругой, и это повторяется несколько раз в продолжение одного часа. Если селезень, находясь при утке, увидит другого селезня, летящего к ним, то сейчас бросается навстречу и непременно его прогонит, как имеющий более прав и причин храбро сражаться. Если к летящей паре пристанет холостой селезень, не нашедший себе еще дружки, то непременно последует драка с законным супругом на воздухе, сопровождаемая особенным коротким живым криком, хорошо знакомым охотнику. Вид бывает живописный: оба селезня перпендикулярно повиснут в воздухе, схватив друг друга за шеи, проворно и сильно махая крыльями, чтоб не опуститься на землю, и, несмотря на все усилия, беспрестанно опускаясь книзу. Победа также, сколько я замечал, оставалась всегда на стороне правого. Иногда утка, чтобы усыпить селезня, употребляет особенного рода ласку: она тихо и долго щекочет носом его шею и спину. Вот почему народ по применению к себе думает, а за ним повторяют охотники, что селезень любит искаться в голове. Иногда утка находит средство уйти и от неспящего селезня: стоит ему только повнимательнее заняться своим аппетитом или позазеваться на что-нибудь — с неимоверным проворством утка пропадает из глаз. Но не всегда бывают удачны ее побеги. Случается, что селезень приметит и отгадает ее намерение, и кинется за ней в погоню в ту самую минуту, как она юркнет в траву или камыш, настигнет, ухватит носом за шею, вытащит ее на воду и долго таскает и щиплет так, что перья летят. Вслед за побоями и наказанием немедленно следуют горячие супружеские ласки. Между тем природа достигает своей цели, утка наносит полное гнездо яиц, окончательно скрывается от селезня и садится высиживать их. Яиц бывает до двенадцати; они совершенно похожи на яйца русских уток, кроме какого-то неопределенного, бледного, самого тонкого, желтовато-зеленоватого цвета. Утка сидит на гнезде, почти с него не слезая; один раз только в сутки сойдет она, чтобы похватать поблизости какой-нибудь пищи, и в продолжение трехнедельного сиденья чрезвычайно исхудает. Наконец, вылупляются утята, покрытые сизо-желтоватым пухом. Если яиц много, то почти всегда бывает один или два болтуна: так называется яйцо, в котором не образовался утенок и в котором оттого, что оно до половины пусто, болтается, когда его потрясешь. Болтуны, вероятно, случаются оттого, что во множестве яиц не все могут быть одинаково прогреты теплотою тела утиной наседки: если яиц не более восьми или девяти, то болтунов не бывает. Через несколько часов после вылупления утят уже нет в гнезде: мать увела их на тихую воду пруда, озера или залива с камышами. Она бережно перенесла утят во рту через такие места, где пройти им трудно: это видали многие охотники и я сам. Между тем селезни, покинутые своими утками, долго держатся около тех луж и озерков, где потеряли своих дружек. Многих из них перебьют охотники, что даже полезно для свободного вывода утят. Стоит только увидеть селезня или заслышать его призывное, впрочем весьма тихое, покрякиванье, — добыча верная: он непременно подпустит стрелка в меру или как-нибудь налетит на него, кружась около одного и того же места. — Наконец, для селезней наступает время линьки, и они также скрываются в крепкие места, в те же камышистые пруды и озера, что продолжается с половины июня почти до исхода июля. В это время только холостые утки, еще не начинавшие линять, изредка попадаются охотникам, и стрельба утиная почти прекращается, если не считать маток, убиваемых от яиц и детей. Но зато в это же время ловят множество утят и утиную подлинь приученными к тому собаками; даже загоняют их в обыкновенные рыболовные сети. Утка — самая горячая мать. Когда собака или человек спугнет ее с гнезда, для чего надобно почти наступить на него, то она притворяется какою-то хворою или неумеющею летать: трясется на одном месте, беспрестанно падает, так что, кажется, стоит только погнаться, чтобы ее поймать. Редкая собака не поддается обману и не погонится за ней; обыкновенно утка уводит собаку за версту и более, но охотнику хорошо известно, что значат такие проделки, и, несмотря на то, он часто по непростительной жадности, позабыв о том, что утка летит так плохо от яиц, то есть от гнезда, что с нею гибнет целая выводка, сейчас ее убивает, если не помешает близкое преследованье собаки, у которой иногда она висит над рылом, как говорится. Впрочем, утка, отведя собаку в сторону, скоро воротится назад, налетит на охотника и все же будет убита. Еще большую горячность показывает утка к своим утятам: если как-нибудь застанет ее человек плавающую с своею выводкой на открытой воде, то утята с жалобным писком, как будто приподнявшись над водою, — точно бегут по ней, — бросаются стремглав к ближайшему камышу и проворно прячутся в нем, даже ныряют, если пространство велико, а матка, шлепая по воде крыльями и оглашая воздух особенным, тревожным криком, начнет кружиться пред человеком, привлекая все его внимание на себя и отводя в противоположную сторону от детей. Если утка скрывается с утятами в отдельном камыше или береговой траве и охотник с собакой подойдет к ней так близко, что уйти некуда и некогда, утка выскакивает или вылетает, смотря по расстоянию, также на открытую воду и производит тот же маневр: ружейный выстрел прекращает тревогу и убивает матку наповал. Это делает каждый охотник без всякого сожаления, потому что бойкие утята, как бы ни были малы, выкормятся и вырастут кое-как без матери; иногда сироты пристают к другой выводке, и мне случалось видать матку, за которою плавали двадцать утят, и притом разных возрастов. Утка иногда кладет яйца и выводит детей, что, впрочем, большая редкость, в дупле дерева и в старом вороньем или сорочьем гнезде. Трудно отгадать, какая крайность может принудить ее к такому необыкновенному поступку, в противность естественному порядку, соблюдаемому всеми утиными породами. Одного такого случая я был самовидцем, а о другом рассказывал достоверный охотник. Я помню также, что один раз кряковная или серая утка нанесла яиц на гумне, в хлебной клади. Вообще утка — самая прожорливая птица. Она ест с утра до поздней ночи, ест все что ни попало: щиплет растущую по берегам молодую гусиную травку, жрет немилосердно водяной мох или шелк, зелень, цвет и все водяные растения, жадно глотает мелкую рыбешку, рачат, лягушат и всяких водяных, воздушных и земляных насекомых; за недостатком же всего этого набивает полон зоб тиной и жидкою грязью и производит эту операцию несколько раз в день. Дворовые же утки охотно едят и всякую мясную пищу. Такому постоянному аппетиту отвечает и пищеваренье: с неимоверной скоростью изнывает и разлагается в ее зобе всякая пища. Очевидно, что пищеварительный сок у нее должен быть очень остр и горяч. Утка беспрестанно испражняется, и помет ее еще горячее гусиного. Но вот уже август. Все старые кряковные утки и даже матки, линяющие позднее, успели перелинять, только селезни перебрались не совсем и совершенно выцветут не ближе сентября, что, впрочем, не мешает им бойко и далеко летать; все утиные выводки поднялись; молодые несколько меньше старых, светлее пером и все — серые, все — утки; только при ближайшем рассмотрении вы отличите селезней: под серыми перьями на шее и голове уже идут глянцевитые зеленые, мягкие, как бархат, а на зобу — темно-багряные перышки; не выбились наружу, но уже торчат еще не согнутые, а прямые, острые, как шилья, темные косицы, в хвосте. В половине сентября и молодые селезни, вместе с старыми, явятся в настоящем виде, в полной красе и блеске своих разноцветных перьев. В продолжение августа идет самая изобильная, добычная стрельба уток: молодые еще смирны, глупы, как выражаются охотники, и близко подпускают с. подъезда. Ловко также стрелять их в лет, поднимающихся с небольших речек, по берегам которых ходят охотники, осторожно высматривая впереди по изгибистым коленам реки, не плывут ли где-нибудь утки, потому что в таком случае надобно спрятаться от них за кусты или отдалиться от берега, чтоб они, увидев человека, не поднялись слишком далеко, надобно забежать вперед и подождать, пока они выплывут прямо на охотника; шумно, столбом поднимаются утки, если берега речки круты и они испуганы нечаянным появлением стрелка; легко и весело спускать их сверху вниз в разных живописных положениях. Добрая собака, особенно водолаз или пудель, тут очень нужна; она не допустит пропасть ни одной утке, даже легко пораненной в крыло или упавшей на отлет далеко на другой стороне реки, иногда посреди густой и болотистой уремы. В сентябре эта охота еще приятнее, потому что утки разжиреют и селезни выцветут; казалось бы, все равно, а спросите любого охотника, и он скажет вам, что убить птицу во всей красоте ее перьев, в поре и сытую — гораздо веселее. Хотя утка слишком обыкновенная, а потому и не очень завидная дичь, но осеннюю стрельбу ее я вспоминаю с большим удовольствием. Притом это первая птица, с которою знакомишься, начиная стрелять, от которой некогда сильно билось молодое сердце страстного охотника, а впечатления детства остаются навсегда. Породы уток так разнообразны величиной и перьями, селезни некоторых пород так красивы, и осенью все они так бывают жирны, что я и не в молодых летах очень любил ходить за ними по реке рано утром, когда мороз сгонял утиные стаи с грязных берегов пруда, даже с мелких разливов, и заставлял их разбиваться врозь и рассаживаться по извилинам реки Бугуруслана. Богатую добычу нередко привозил я домой: десятка по полтора и более таких уток, что и трех в ягдташ не упрячешь. Подстреленная утка воровата, говорят охотники, и это правда, она умеет мастерски прятаться даже на чистой и открытой воде: если только достанет сил, то она сейчас нырнет и, проплыв под водою сажен пятнадцать, иногда и двадцать, вынырнет, или, лучше сказать, выставит только один нос и часть головы наружу и прильнет плотно к берегу, так что нет возможности разглядеть ее. Если же берега травянисты, то без хорошей собаки ни за что не найдешь подстреленной утки: она вылезет на берег и пропадет. Посреди чистой воды, когда берега голы и круты, она выставит один нос для свободного дыханья и, погруженная всем остальным телом в воду, уплывет по течению реки, так что и не заметишь. Но от доброй собаки трудно ей отделаться: она не даст ей уползти на берег, а внимательный и опытный охотник, зная по направлению утиной головы, где должна вынырнуть утка, подстережет появление ее носа и метким выстрелом, после мгновенного прицела, раздробит полусокрытую в воде ее голову. Хотя утки всегда едят очень много, о чем я уже говорил, но никогда они так не обжираются, как в продолжение августа, потому что и молодые и старые, только что перелинявшие, тощи и жадны к еде, как выздоравливающие после болезни. В августе к обыкновенному их корму прибавляется самая питательная и лакомая пища — хлеб. Если хлебное поле близко от пруда или озера, где подрастали молодые и растили новые перья старые утки, то они начнут посещать хлеба сначала по земле и проложат к ним широкие тропы, а потом станут летать стаями. Беда хозяевам близких загонов гречи, проса, гороха и овсов! Утки, так же как и гуси, более любят хлебные зерна без оси, но за неименьем их кушают и с осью, даже растеребливают ржаные снопы; по уборке же их в гумна утиные стаи летают по-прежнему в хлебные поля по утренним и вечерним зорям, подбирая насоренные на земле зерна и колосья, и продолжают свои посещения до отлета, который иногда бывает в ноябре. В это время, кроме всех других способов, можно их стрелять на перелете: отправляющихся в поля и возвращающихся с полей. В октябре утки сваливаются в большие стаи, и в это время добывать их уже становится трудно. День они проводят на больших прудах и озерах. Нередко вода бывает покрыта ими в настоящем смысле этого слова. Мне пришли на память стихи из послания одного молодого охотника, которые довольно верно изображают эту картину: Пруды, озера уток полны: К такой огромной стае, сидящей всегда на открытой поверхности воды или на голых и пологих берегах, ни подъехать, ни подойти, ни подкрасться невозможно. На небольшую речку утки, по многочисленности своей, уже не садятся, как бывало прежде, и я употреблял с пользою, даже в продолжение всего октября, следующее средство: я сбивал с широких прудов утиные стаи ружейными выстрелами и не давал им садиться, когда они, сделав несколько кругов, опускались опять на середину пруда. Утки улетали вверх или вниз по реке, но по привычке к своему обыкновенному местопребыванию и не желая от него отдалиться, принуждены были разбиваться на мелкие стаи и рассаживаться кое-как по реке. Я оставлял охотника на пруду, который от времени до времени стрелял по возвращающимся станицам уток. Разумеется, выстрелы были безвредны, но они заставляли утиные стайки садиться по речным изгибам. Сам же я отправлялся пешком по берегу реки, шел без всякого шума, выказываясь только в тех местах, где по положению речных извилин должны были сидеть утки. Нередко удавалось мне добывать до десятка крупных и жирных крякуш, по большей части селезней, потому что, имея возможность выбирать, всегда ударишь по селезню; только советую в подобных случаях не горячиться, то есть не стрелять в тех уток, которые поднялись далеко. Разбившиеся утиные стаи расплывутся по всей реке, и потому поднявшиеся утки не улетят очень далеко, а только пересядут к передним, которые находятся от охотника подальше. Дробь надобно употреблять сообразно дальности или близости подъема уток от 3-го до 5-го нумера включительно; чем дальше, тем дробь нужна крупнее. Я всегда употреблял мелкую, утиную нумер 4. Впрочем, успех такой стрельбы зависит от местности. Во-первых, надобно, чтобы поблизости не было больших прудов и озер и чтоб утиным стаям некуда было перемещаться, не разбиваясь; во-вторых, чтобы река текла не в пологих берегах и чтобы по ней росли кусты, без чего охотник будет виден издалека и утки никогда не подпустят его в меру. Кряковных уток стреляют также на подманку, особенно селезней, когда утки начнут прятаться от них: тут они горячо летят на поддельный крик утки. Стреляют их также с прилета весной на дикую или русскую ученую утку, похожую пером на диких. Для этого надевают на утку хомутик и привязывают ее на снурке к колышку, с кружком для отдыха посреди какой-нибудь лужи, и не в дальнем расстоянии ставят шалаш, в котором сидит охотник. Утка, от скуки по природе своей кричит во все горло без умолку, а дикие селезни и даже утки садятся около нее на воду под самое ружейное дуло охотника. Я такой стрельбы терпеть не могу. При сей верной оказии ловят селезней и сильями, или, лучше сказать, веревочкой с сильями, которую расставляют на колышках около приманной утки. Ловят или по крайней мере ловили прежде уток в Оренбургской губернии перевесами, точно как и гусей, потому что у них также всегда бывает одна и та же воздушная дорога в поля. Травят уток ястребами и соколами: первая охота пустая и даже малодобычливая, но охота с соколами, которая, кажется, совершенно перевелась в России, — великолепнейшая из всех охот. Башкирцы в Оренбургской губернии и теперь еще держат соколов, но дурно выношенных, не приученных брать верх так высоко, чтоб глаз человеческий едва мог их видеть, и падать оттуда с быстротою молнии на добычу. Башкирские соколы поважены почти в угон ловить уток. Мясо кряковных уток довольно сухо и черство, когда они тощи, что бывает в июне и в июле, но всегда питательно. Мясо молодых утят очень мягко, и многие находят его очень вкусным, особенно зажаренное в сметане на сковороде; но мне оно не нравится. Вот осенние жирные кряквы, преимущественно прошлогодней выводки, имеют отличный вкус: они мягки, сочны, отзываются дичиной, и никогда откормленная, дворовая утка с дикою не сравнится. Должно признаться, что все утиные породы, без исключения, по временам пахнут рыбой: это происходит от изобилия мелкой рыбешки в тех водах, на которых живут утки; рыбешкой этою они принуждены питаться иногда по недостатку другого корма, но мясо кряквы почти никогда не отзывается рыбой. Я довольно подробно говорил о кряковных утках. Теперь, описывая другие утиные породы, я стану говорить только об их исключительных особенностях. Нравы всех уток-нерыбалок, образ жизни и пища так сходны между собою почти во всем, что мне пришлось бы повторять одно и то же. б) ШИЛОХВОСТЬ  Эта утка поменьше кряковной и склад имеет совсем особенный: телом она несколько тонее и продолговатее, шея у ней гораздо длиннее и тоньше, а также и хвост, особенно у селезня. Утка вся светло-серая, покрыта мелкими крапинками; на крыльях, по правильным перьям, лежат сизо-зеленоватые глянцевитые полоски и больше ничего, а брюшко беловатое. Селезень довольно красив; нос небольшой, почти черного цвета; вся голова, даже на палец пониже затылочной кости, кофейного цвета; от головы вниз, по верхней стороне шеи, идет ремень, сначала темный, а потом узорчатый, иссера-сизый, который против крылец соединяется с таким же цветом спины. Все остальные части шеи, зоб и хлупь — чисто-белые; из-под шеи, по обеим щекам, по кофейному полю идут извилистые полоски почти до ушей; спина светло-сизая или серая узорчатая; на крыльях лежат зеленовато-кофейные, золотистые полосы, сверху обведенные ярко-коричневою, а снизу белою каемочкою; по спинке к хвосту лежат длинные перья, окаймленные по краям беловатою бахромкою, некоторые из них имеют продольные беловатые полоски; вообще оттенки темного и белого цвета очень красивы; верхняя сторона крыльев темновато-пепельная, а нижняя светло-пепельная; такого же цвета верхние хвостовые перья; два из них потемнее и почти в четверть длиною: они складываются одно на другое, очень жестки, торчат, как спица или шило, от чего, без сомнения, эта утка получила свое имя. Подхвостье почти черное, ноги темного цвета, но светлее носа. Весною шилохвости прилетают позднее кряковных и сначала летят большими стаями. Полет их резвее полета крякуш; они чаще машут крыльями и производят свист в воздухе, что происходит от особенного устройства их крыльев, которые не так широки, но длинны. Когда утки разобьются на пары, то шилохвости встречаются гораздо реже, чем другие утиные породы; гнезда их и выводки молодых также попадаются редко, отчего охотник и дорожит ими более, чем кряковными утками. Осенью я не видывал близко больших стай шилохвостей, но иногда узнавал их по особенному глухому их голосу, похожему на тихое гусиное гоготанье, по полету и по свисту крыльев; стаи всегда летели очень высоко. Еще реже нахаживал я их врассыпную по речкам. Приблизительно можно сказать, что шилохвостей убьешь вдесятеро менее, чем кряковных. Это довольно странно, потому что во время весеннего прилета они летят огромными стаями. Во всем прочем, кроме того, что яйца их несколько уже и длиннее яиц кряковной утки, шилохвости в точности имеют все свойства других утиных пород, следственно и стрельба их одна и та же. Хотя шилохвостей застрелено мною мало сравнительно с другими породами уток, но вот какой диковинный случай был со мной: шел я однажды вниз по речке Берля,[25] от небольшого пруда к другому, гораздо обширнейшему, находившемуся верстах в трех пониже; кучер с дрожками ехал неподалеку за мной. Семь крупных шилохвостей пронеслись высоко мне навстречу; я выстрелил из обоих стволов, но ни одна утка не обратила, по-видимому, никакого внимания на мои выстрелы. Через несколько минут кучер закричал мне, что те же утки летят назад, и точно: видно, что-нибудь помешало им опуститься на маленький пруд, оставленный мною назади, и они возвращались на большой пруд. Утки летели так высоко, что стрелять было невозможно. Я проводил их глазами и продолжал идти по речке. Вдруг кучер мой снова закричал мне, что те же семь шилохвостей опять летят мне навстречу, прибавя, что «видно, и на большом пруду помешали им сесть». Мы оба устремили глаза на летящих еще выше прежнего прямо над нами уток. Вдруг одна из них перевернулась на воздухе, быстро пошла книзу и упала недалеко от меня: это был селезень шилохвость, с переломленною пополам плечною костью правого крыла… Трудно поверить, а дело было точно так. Со всякою другою раной птица может несколько времени летать, но летать с переломленною костью крыла и летать долго — это просто невозможно. Не было никакого сомнения, что это были те же самые утки, в которых я выстрелил: зоркий кучер мой не выпускал их из глаз. Итак, нельзя иначе объяснить это казусное дело, как предположением, что дробина ударилась в папоротку селезня и надколола плечную кость вдоль, то есть произвела маленькую трещинку в ней, и что, наконец, от усиленного летанья кость переломилась поперек, и птица упала. Я сам понимаю, что многим покажется такое объяснение неудовлетворительным, но другого придумать нельзя. Изумительно также тут стечение обстоятельств: надобно же было сделаться этому перелому в самую ту минуту, когда утки, пролетев несколько верст взад и вперед, в третий раз летели надо мной, так что шилохвость упал почти у моих ног. в) СЕРАЯ УТКА  Название несколько общее, потому что самки всех утиных пород пером серы, или, если выразиться точнее, серо-пестры, и собственно так называемые серые утки очень сходны со всеми утиными самками. Но тем не менее серая утка совершенно заслуживает свое имя, потому, что она серее всех уток и особенно потому, что даже селезень ее не имеет никаких отметин. Ей по преимуществу принадлежит место в русской песне, когда говорится: Уж я улицею, Вся разница состоит в том, что пестрины на селезне несколько мельче и как будто светлее, и что одна сторона поперечной белой полоски, лежащей и на крыльях утки, у селезня окаймлена узенькою полоскою красновато-коричневого цвета с блестящим лоском. Серых уток иногда называют серками и еще полукряквами: последнее название не совсем справедливо, потому что они не вполовину, а только несколько меньше кряковных. Серые утки не имеют в себе никакой особенности в отличие от других утиных пород, кроме сейчас мною сказанной, то есть что селезень почти ничем не разнится с уткой, и что все утиные породы пестрее, красивее серых уток. Вообще они довольно обыкновенны и попадаются охотнику гораздо чаще, чем шилохвости, хотя во время весеннего прилета я не замечал больших станиц серых уток, и еще менее — во время отлета. В этом обстоятельстве есть какое-то противоречие, которое объяснить довольно трудно. Несмотря на свою некрасивость, или, правильнее сказать, простоту пера, которая никому в глаза не кинется, серые утки, после кряквы и шилохвости, уважаются охотниками более всех остальных утиных пород, потому что довольно крупны, мясисты, бывают очень жирны и редко пахнут рыбой. Многие охотники говорили мне, что есть две породы серых уток, сходных перьями, но различающихся величиною. Сначала я сам разделял это мнение, потому что точно в величине их замечал большую разницу; впоследствии же убедился, что она происходит от разности возраста. Впрочем, все еще остается некоторое сомнение, и я предоставляю решить его опытнейшим охотникам. г) СВИЯЗЬ  Это название охотничье, и откуда оно происходит — сказать не умею. Народ называет эту утиную породу красноголовкой и белобрюшкой, потому что у селезня голова и половина шеи красновато-кирпичного цвета, а хлупь или брюшко у селезня и утки очень белы и лоснятся на солнце. Эта утка, будучи менее кряковной и шилохвости, даже покороче серой утки, имеет склад круглый и крепкий. Ее быстрый полет, частое и резкое маханье крыльями показывают сильное сложение. Селезень очень красив: он весь пестрый; на голове, над самыми его глазами, находится белое пятно, остальная часть головы и половина шеи красновато-коричневого цвета; потом следует поперечная полоса серой ряби, сейчас исчезающей и переходящей в светло-багряный цвет, которым покрыт весь зоб; брюшко белое, спина испещрена красивою поперечною рябью; на крыльях, поперек от плечного сустава, лежит чисто-белое, широкое и длинное пятно, оканчивающееся черною бархатною оторочкой, под которою видна зелено-золотистая полоса, также отороченная черно-бархатною каймою; хвост короткий, шилообразный и довольно твердый; нос и ноги небольшие и черные. Правильные перья дикого, светло-кофейного цвета. — Утка, напротив, вся темная, кроме белого брюшка; с первого взгляда очень похожа на чернь, и никак нельзя подозревать, чтоб она имела такого красивого, до такой степени на нее непохожего селезня. Рано весной сиязь летит большими стаями. Их можно узнать в вышине по скорому полету и особенному звуку, похожему на свист с каким-то шипеньем, отчего и называют их иногда шипунами. Свист происходит от быстрого полета, который сливается с их сиповатым покрякиваньем. Все три предыдущие породы уток летают осенью в хлебные поля отдельными стаями и станичками, но свиязей я никогда не замечал между ними. То же должен я сказать о всех последующих утиных породах.[26] К этому надобно присовокупить, что все они, не говорю уже о нырках, чаще пахнут рыбой. Можно предположить, что, не питаясь хлебным кормом и не будучи так сыты, как бывают кряковные, шилохвость и серые утки, они ловят мелкую рыбешку, которая именно к осени расплодится, подрастет и бесчисленными станицами, мелкая, как овес, начнет плавать везде, по всяким водам. Впрочем, свиязи, как и все почти утиные породы, и без хлебной пищи бывают осенью очень жирны, хотя никогда не могут равняться в этом отношении с кряквами. Никаких других особенностей свиязь не имеет, кроме того, что, прилетая весной большими стаями, в продолжение всего года попадается охотникам гораздо реже, чем бы следовало. Вероятно, по причине таких редких встреч, а также по красивости селезней, мясистому, круглому и крепкому складу своему свиязь ценится охотниками выше других уток после кряковных, шилохвостей и серых. Я по крайней мере должен признаться, что всегда был очень доволен, когда мне случалось положить в ягдташ красноголового селезня белобрюшки. д) ШИРОКОНОСКА 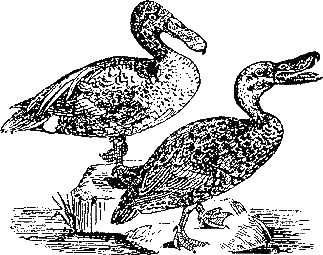 Широконоски называются также плутоносами. Первое название по праву и бесспорно принадлежит этой утиной породе: нос ее необыкновенно к концу широк и похож на округленное весло, второе же имя дано ей неизвестно на каком основании. Эта утка очень периста, но даже и в перьях меньше предыдущих пород, телом же еще скуднее. Вообще она какого-то слабого, рыхлого, сухощавого сложения: с первого взгляда утка как утка, а возьмешь в руки — перья да кости. Никогда жирных широконосок я не видывал, хотя они попадались мне, как и всем охотникам, очень часто. Утка вся серо-пестрая, покрыта коричневыми и немелкими крапинами по желтоватому полю; на правильных перьях поперечная полоска синяя с глянцем. Селезня должно бы назвать очень красивым: он весь пегий, зоб темно-багряный, на шее белая повязка, спина и крылья сизо-голубые, брюшко светло-серое; и со всем тем он как-то не кажется красивым и далеко уступает селезню свиязей. Ни весной, ни осенью я не замечал прилетных или отлетных стай широконосок, но парами и в одиночку, как я уже и сказал, они попадаются часто, что довольно странно и что также замечено мною в серых утках. Охотниками уважаются они мало. Вообще утки не отличаются крепостью к ружью, широконоска же слабее других пород. Несмотря на то, вот какой был со мной случай. В десяти верстах от меня ушел пруд; по обмелевшему дну много держалось всякой дичи, но ходить было тяжело. Это, однако, не мешало мне часто посещать его. Один раз, бродя между высокими камышами, по колено в грязи, и довольно нагрузив мой ягдташ мелкою дичью, увидел я низко и прямо на меня летящую пару широконосок. Они летели совершенно в равной вышине от земли с моим ростом. Я ударил их встречу бекасиною дробью и убил наповал обоих: селезня и утку. Мне не хотелось мять в ягдташе бекасов и гаршнепов, и я заткнул головы обеих широконосок за кожаный ремень, которым был подпоясан, подтянув его потуже, чтоб утки не выпали. Я проходил еще более часа. Наконец, вышел к своим дрожкам, поклал всю дичь в кожаный ящик и первых бросил туда широконосок. Я воротился домой не скоро: стрелял дорогой с подъезда и набил полон ящик разной дичью. По возвращении, при мне, у крыльца выбирали птицу из дрожек; когда добрались до дна ящика, вдруг селезень широконоска вылетел и скрылся из глаз, как совершенно здоровый!.. Оглушительные, обморочные, всегда головные раны, после которых птицы, по-видимому убитые наповал, иногда отдыхают и улетают, — не редкость, но удивительно, как не удавился этот селезень, которого я таскал так долго заткнутого головой за туго подтянутым поясом?.. Как не задохся он в ящике под кучею дичи? В противоположность ранам оглушительным, обморочным, или, правильнее сказать, контузиям, бывают раны внутренние, смертельные впоследствии, но с которыми птица сгоряча, как говорится, иногда долго летает и вдруг скоропостижно умирает. Таких случаев много со мной бывало, и я расскажу один из них. Выстрелил я с подъезда в пару чирков, проворно отплывавших от плоского берега на середину широкого пруда, где в недоступном для ружья расстоянии плавала большая стая черни. Я убил одного чирка, и собака подала его мне с воды. Поднявшись от выстрела и сделав круг, утиная стая черни села опять на средину пруда. Я, зарядив ружье, стоял еще на берегу, поджидая, не налетит ли на меня куличок или утчонка. Вдруг вся стая черни стремительно поднялась, как будто испуганная чем-то, и улетела. Я взглянул и увидел, что одна утка бьется на воде в предсмертных конвульсиях. Я послал собаку, и она вынесла мне уже умершую утку чернь, которая была вся в крови, вытекавшей из боковой раны прямо против сердца. Это достаточное доказательство, что птица может летать, будучи ранена смертельно. Но сколько тут удивительных обстоятельств! Утка была ранена на расстоянии по крайней мере девяноста или ста шагов, ранена рикошетом, взмывшею от воды 4-го нумера дробинкой (ибо я стрелял в чирков вдвое ближе), улетала вместе со стаей, как будто здоровая, и улетала довольно далеко; потом прилетела назад, села на прежнее место и умерла перед моими глазами. Отсюда можно заключить, сколько пропадает раненой птицы, не замечаемой охотниками. е) ЧИРОК  Чирок-коростелек. Чирок-половой. Вероятно, это имя дано ему по его крику. Чирок чиркает, то есть голос его похож на звуки слова чирк, чирк. Чирков две породы: первая — чирки-коростельки, а вторая — чирки-половые. Крик чирка-коростелька гораздо тонее и протяжнее, чем у чирка-полового, но гораздо пронзительнее и слышнее. Почему он назван чирком-коростельком — не знаю. Если по голосу, то хриплый и короткий крик обыкновенного коростеля, или дергуна, более сходен с криком чирка-полового. Вообще чирки составляют самую мелкую, проворную, юркую и складную утиную породу. Утка чирка-коростелька вся светло-серая; на крыльях имеет она малозаметную (если не распустит крыла) светло-сизую полоску. У ее селезня эта полоска гораздо шире и сизее, даже почти голубоватая, с ярким лоском; сверх того, по обеим сторонам его головы, вдоль по шее красно-кирпичного цвета, идут белые полоски с небольшим в вершок длиною; пером он светлее утки, и брюшко его белесоватее. Чирки-половые всегда меньше коростельков, а иногда попадаются необыкновенно мелкие. Мне случилось однажды убить такую маленькую утку этой породы, что она казалась маленьким кряковным утенком: по миниатюрности своей она была очень миловидна. Половые чирки так же серы и пестры, как и чирки-коростельки, но цвет их перьев желтоватее и темнее; утка вся серо-пестрая, на крыльях имеет ярко блестящую, довольно широкую зеленую полоску. У селезня она еще шире и ярче; по обеим сторонам его головы, от глаз до половины шеи, тянутся две полоски, или, лучше сказать, два длинные пятна, около вершка, но вдвое шире, чем у чирка-коростелька. Эти пятна или полоски красновато-желтого цвета, точно как подпалины у гончей собаки: вот откуда, я думаю, происходит имя полового чирка. Народ выражается с удивительной точностью; из всех утиных пород одним только чиркам придает он во множественном числе тот окончательный слог, которым означается малость и детство существа, например утята, цыплята и проч.; чирков старых вообще он называет чирята. Во время весеннего прилета и осеннего отлета чирки появляются большими стаями; весною всегда оказываются несколько позднее других утиных пород, а осенью держатся долее всех, кроме кряковных уток. Чирки в розницу или по разноте, как говорят охотники, во все время своего пребывания у нас попадаются чаще всех уток. Несмотря на их обыкновенность и также на то, что чирки смирнее всех утиных пород, я всегда дорожил ими более, чем многими утками средней величины. Чирки прилетают довольно сытые, а улетают, облитые жиром, немного уступая в этом отношении кряквам, хотя я никогда не замечал, чтоб они летали в хлебные поля. Полет их очень жив и скор, особенно когда они соберутся в большие стаи. Кружась над местом, на которое хочет опуститься стая, чирки быстро поворачиваются, свиваясь как будто в темный клубок и развиваясь в более светлую полосу. Не один раз, стоя на весенних и осенних поздних вечерних стойках, бывал я испуган шумом и свистом, даже внезапным вихрем от промелькнувшей над самою головою плотно свернувшейся станицы чирят. Я не говорил о величине яиц предыдущих утиных пород, кроме кряковной; будучи сходны между собою цветом и фигурой, они уменьшаются соразмерно с уменьшением величины утки, но яйца чирят так малы и матовый, слегка зеленоватый цвет их так нежен, что нельзя не упомянуть о них особенно. Странное дело: у кряковных и других больших уток я никогда не нахаживал более девяти или десяти яиц (хотя гнёзд их нахаживал в десять раз более, чем чирячьих), а у чирков находил по двенадцати, так что стенки гнезда очень высоко бывали выкладены яичками, и невольно представляется тот же вопрос, который я задавал себе, находя гнезда погоныша: как может такая небольшая птица согреть и высидеть такое большое количество яиц? Чирки с весны парами, а потом и в одиночку попадаются охотникам везде, где только есть вода, в продолжение всего лета, но они особенно любят маленькие речки, озерки и лужи, часто в самом селении находящиеся; прилетают даже к русским уткам. В осеннее время можно иногда сделать очень удачный выстрел в навернувшуюся нечаянно стаю чирят, и мне случилось один раз убить из одного ствола моего ружья, заряженного рябчиковою дробью, девять чирков. Подстреленный чирок ныряет проворнее всех уток, разумеется кроме нырка, и всех искуснее умеет спрятаться и притаиться в траве. Мясо жирного, осеннего чирка, если не пахнет рыбой, что, к сожалению, хотя редко, но бывает, я предпочитаю даже мясу кряковой утки;[27] в нем слышнее запах дичины. Все утиные яйца очень вкусны; но яйца чирка вкуснее других. Вот лучшие породы уток, мне известные. Теперь я стану говорить об утках низшего достоинства, которые охотниками не уважаются, особенно потому, что все, без исключения, постоянно и сильно пахнут рыбой. Все они уже утки-рыбалки, или рыболовки; это по преимуществу водоплавающие птицы. Постоянное их местопребывание и днем и ночью — вода; земля для них почти не существует. ж) НЫРОК 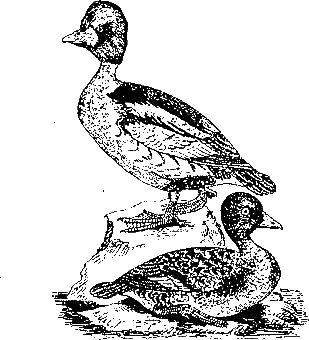 Небольшая, но крепкая, складная и мясистая утка. Кличка ей дана, как говорится, по шерсти, хотя, правду сказать, гагара не уступает нырку, а гоголь превосходит его в искусстве или способности нырять. Нырки пером пестры, а говоря точнее, их можно назвать пегими; цвет пежин однообразный и траурный — черный с белым; селезень пестрее и красивее утки. Полет их очень быстр, и от частого маханья крыльями происходит особенный звук, похожий не на чистый свист, а на какое-то дрожанье свиста, которое нельзя передать словами; подобный звук слышен отчасти в полете стрепета. Охотникам он хорошо знаком. Нырок не вдруг поднимается с воды, завидя человека: он сейчас начинает так проворно нырять, что на широкой воде в одну минуту очутится в безопасном расстоянии от выстрела. Если же это случится не на широкой реке и нырку придется нырять вниз по течению, то он производит с таким проворством свое подводное плаванье, что стрелок, если захочет догнать его, должен бежать, как говорится, во все лопатки. Наконец, когда охотник внезапно явится слишком близко к вынырнувшему нырку, забежав вперед за излучину или колено реки, — нырок поднимается; сначала отделяется от воды довольно трудно, летит, шлепая крыльями по водяной поверхности, но скоро разлетится, полетит очень быстро и поднимется высоко. Нырки прилетают весной ранее всех уток. В исходе марта иногда стоит в Оренбургской губернии глубокая зима: ни малейших признаков наступающей весны, кроме ослепительного блеска, которым стекленеется поверхность снегов!.. И вдруг охотник слышит, что в вышине, под облаками, раздаются какие-то особенные звуки; он легко узнает их: это дребезжащий свист или шум от резкого полета огромных стай нырков. Поглядев пристально, зоркими глазами можно увидеть их, быстро и высоко летящих, подобно облаку или серой тучке, гонимой сильным ветром. Трудно пересказать, какое сладкое впечатление производят на сердце охотника эти неясные звуки, этот неопределенный шум, означающий начало прилета птицы, обещающий скорое наступление весны после долгой, нестерпимо надоевшей зимы, которая доводила до отчаяния охотника своею бесконечностью… Вот пример, как иногда бывает длинна зима в Оренбургской губернии: в 1807 году 1 апреля перед солнечным восходом было двадцать градусов мороза по Реомюру! Это так красноречиво, что ничего прибавлять не нужно и, несмотря на первое апреля, — совершенно верно, ибо с точностью записано мною в моих охотничьих записках. Не знаю, как другие охотники, но я всегда встречал с восхищением прилет нырков и, в благодарность за раннее появление и радостное чувство, тогда испытанное мною, постоянно сохранял к ним некоторое уважение и стрелял их, когда попадались… Хороша благодарность и уважение, скажут не охотники, но у нас своя логика: чем более уважается птица, тем более стараются добыть ее. Сначала большие стаи нырков пролетают, не опускаясь, да и некуда им опускаться; вслед за ними появляются нырки парами везде, где река или материк в пруде очистились от льда, а на больших реках — по полыньям; потом до лета нырки продолжают держаться по рекам и прудам, парами и в одиночку. В продолжение лета нырков встречаешь мало, и то селезней, а осенью они опять собираются к отлету большими стаями. Никогда не нахаживал я их гнезд, но выводки мне попадались. Кажется, можно сказать утвердительно, что нырки не вьют гнезд на твердой земле, как все предыдущие, описанные мною утиные породы, а, подобно другим рыболовным уткам, ухитряются класть свои гнезда в камышах или высокой густой осоке, на воде или над водою. Я нашел два такие гнезда, и они будут описаны в своем месте. С нырка начинаются утиные породы, которые почти лишены способности ходить по земле: лапы их так устроены, что ими ловко только плавать, то есть гресть, как веслами; они посажены очень близко к хвосту и торчат в заду. У нырка эта особенность еще не так резко выдается, и он составляет как будто переходную породу. Нос у него обыкновенного устройства, черноватый, не узенький и не бледно-рогового цвета, как у всех остальных пород рыбалок, кроме черни. Все водоплавающие птицы снабжены от заботливой природы густым и длинным пухом, не пропускающим ни капли воды до их тела, но утки-рыбалки, начиная с нырка до гоголя включительно (особенно последний), предназначенные всю жизнь проводить на воде, снабжены предпочтительно самым густым пухом. Нырок всегда на воде: с утра до вечера ловит мелкую рыбешку, не брезгая, впрочем, никакими водяными мелкими гадинами и насекомыми. Утки с утятами, которые изумительно проворны, держатся упорно в камыше, и трудно выгнать их на открытую воду. Нырки всегда довольно сыты, а осенью бывают даже очень жирны; мясо их было бы сочно, мягко и вкусно, если б не пахло сильно рыбой. Я встречал людей, которым этот запах был не противен, и они считали нырков за лакомое кушанье. Если с нырка содрать кожу, выскоблить начисто его внутренности, хорошенько выполоскать, помочить часа два в соленой воде и потом зажарить, то рыбного запаху останется очень мало, и у кого хорош аппетит, тот может кушать его с удовольствием. Нырок довольно крепок к ружью и требует настоящей утиной дроби, не мельче 4-го нумера. Есть точно такие же маленькие нырки, не более чирка, и есть еще нырки большие, с красными головами, широким носом пепельного цвета и широкими лапами абрикосового цвета. И тех и других мне видеть близко не удалось. з) ЧЕРНЬ  Недаром дано этой породе уток собирательное имя: они появляются не очень рано весной, всегда огромными стаями; не только в одиночку или попарно, но даже маленькими стайками я никогда их не встречал. Обыкновенно садятся они на большие, чистые пруды или озера и густым черным покрывалом одевают светлую воду. Вода буквально кажется черною, а потому и в этом отношении верно дано им название чернь. Они бывают у нас только пролетом: весной и осенью; на больших водах держатся долго, особенно в хорошую, теплую осень. Где выводят детей — не знаю, только не в тех уездах Оренбургской губернии, где я живал, потому что с молодыми я никогда их не видывал.[28] Величиною, складом носа и пером чернь очень похожа на утку нырка, то есть верхняя часть у них черного, а нижняя — беловатого цвета. Мне не удавалось много стрелять их; это хлопотно, потому что они всегда сидят на середине пруда и надобно к ним подъезжать на лодке, чего я никогда не делал, да и птица того не стоит. Я бивал их только тогда, когда они случайно на меня налетали. Различия в перьях между селезнем и уткой я не замечал, но другие охотники сказывали мне, что селезень отличается большим отливом кофейного цвета, большею величиной и черным хохлом. Вообще эта утка пером некрасива, но крепкого сложения; нос и лапы у ней точно такого же цвета и устройства, как у нырка, а пахнет рыбой меньше его. Если удастся подплыть в меру из-за камыша к стае черни, то можно убить одним зарядом до десятка. и) ГАГАРА  Долго думал я, что крохаль — утка-рыбалка, особенная от гагары, потому что в молодости случилось мне убить двух гагар, которые не имели хохлов, были гораздо белесоватее пером, крупнее телом и которых простые охотники тогда называли крохалями. Впоследствии убедился я, что это одно и то же и что убитые мною утки-рыбалки были старые гагары, или крохали, которые всегда бывают крупнее и белесоватее. Без хохлов также попадались мне многие впоследствии, и, вероятно, хохлы имеют только селезни. Длина этой утки от носа до хвоста, или, лучше сказать до ног, ибо хвостовых перьев у гагар нет, — одиннадцать вершков, нос длиною в вершок, темно-свинцового цвета, тонкий и к концу очень острый и крепкий; голова небольшая, продолговатая, вдоль ее, по лбу, лежит полоса темно-коричневого цвета, оканчивающаяся позади затылочной кости хохлом вокруг всей шеи, вышиною с лишком в вершок, похожим более на старинные брыжжи или ожерелье ржавого, а к корню перьев темно-коричневого цвета; шея длинная, сверху темно-пепельная, спина пепельно-коричневая, которая как будто оканчивается торчащими из зада ногами, темно-свинцового цвета сверху и беловато-желтого снизу, с редкими, неправильными, темными пятнами; ноги гагары от лапок до хлупи не кругловаты, но совершенно плоски, три ножные пальца, соединенные между собой крепкими глухими перепонками, почти свинцового цвета и тоже плоские, а не круглые, как бывает у всех птиц. Повыше последнего сгиба ноги, от которого начинается лапка, есть четвертый палец, в виде крошечной плоской лопатки, с таким же ногтем. Крылья, относительно величины самой птицы, не уступающей кряковной утке, очень узки и малы. Цвет их пепельно-коричневый; с обоих краев первые перья белые, а посредине крыльев поперек идет полоса пальца в три шириною, коричневого цвета; такого же цвета и три правильные пера. Брюхо, от ног до самого хохла или ожерелья, покрыто белыми, мелкими, серебристыми перьями, имеющими, с первого взгляда, вид волос, так они тонки; под перьями лежит превосходный, густой и нежный пух дикого цвета. Подбой крыльев ярко-белый. Гагары вполне утки-рыбалки и так пахнут рыбой, что есть их почти невозможно, а потому охотники не стреляют гагар, разве для того, чтоб разрядить ружье, или для пуху, который не уступает гоголиному. Русский народ, однако, знал хорошо гагару только под именем крохаля (без сомнения, это имя древнейшее), потому что крохаль живет до сих пор в поговорке или присловье народном.[29] Когда хотят выразить чью-нибудь заботливость и любовь к другому лицу, то говорят: «Он (или она) дрожит над ней, как крохаль». Это означает или сильную привязанность селезня крохаля к утке, или особенную горячность последней к утятам, подмеченную народом. К сожалению, я не знаю коротко нравов этой утки, которые непременно должны быть замечательны, чему доказательством служит особенность в плоскости ног и в свивании гнезд, плавающих по воде. Я нашел один раз такое гнездо: гагара, сидя на нем, как на лодке, плавала по маленькому озерцу, находившемуся посреди огромного камыша; увидя меня в близком расстоянии, гагара сползла или свалилась на воду и нырнула. Яиц было девять (?), похожих на куриные величиною и фигурою, бледно-зеленоватого цвета с крапинками. Во время общего весеннего прилета птицы я никогда не замечал пролетных гагар стаями. Они оказываются как-то нечаянно, всегда в одиночку и всегда очень поздно весною. Глубокие пруды, особенно материки прудов, большие озера с камышами — вот обыкновенное их местопребывание. Пища гагар преимущественно состоит из мелкой рыбешки и частью из водяных насекомых. Гагары почти не могут ходить, а могут только присесть на свои ноги и то на мели, отчего получают странную посадку, ибо сидят, запрокинувшись назад, в полустоячем положении, подняв свой острый нос кверху. Они имеют в крыльях перья коротенькие, отчего самые крылья кажутся не так коротки. Вообще гагары летают, особенно поднимаются сначала, трудно, пока не разлетятся, и только одна крайность может заставить их подняться с воды; по большей части от всякой опасности они отделываются упорным ныряньем, в чем уступают только одним гоголям. Впрочем, некоторые охотники видали их летающих высоко и быстро целыми станицами. Есть еще порода маленьких гагар, которые втрое меньше больших, совершенно с ними схожи станом и пером, но, кажется, без хохлов. Эта порода, напротив, всегда попадалась мне станичками: они летают гораздо резвее. Название гагары объяснить не умею. Иногда смешивают гагар с гоголями по прямизне и длине вытянутых шей, но между ними немало существенной разницы во многих отношениях, о чем сейчас я буду говорить. к) ГОГОЛЬ Собственное имя гоголя часто употребляется в народе как нарицательное или качественное. Всякий русский человек поймет, когда скажут про кого-нибудь: «Экой гоголь!..» или: «Смотри, каким гоголем выступает…», хотя гоголь никак не выступает, потому что почти не может ходить. Это уподобление основывается на том, что гоголи (равно как и гагары) очень прямо держат свои длинные шеи и высоко несут головы, а потому людей, имеющих от природы такой склад тела, привычку или претензию, которая в то же время придает вид бодрости и даже некоторой надменности, сравнивают с гоголями. Без особенного острого зрения можно различить во множестве плавающих уток по озеру или пруду, торчащие прямо, как палки, длинные шеи гагар и гоголей; последние еще заметнее, потому что они погружают свое тело в воду гораздо глубже всех других уток и шеи их торчат как будто прямо из воды. Гоголь — последняя и, по преимуществу, самая замечательная утка-рыбалка, и пища его состоит исключительно из мелкой рыбешки. Гоголь поменьше гагары и равняется величиной с утками средними, например с широконоской или белобрюшкой, но склад его стана длиннее и челнообразнее. Цвет перьев сизый, даже голубоватый, с легкими отливами; ноги торчат совершенно в заду, лапки зеленоватого цвета, перепонки между пальцами очень плотные. Гоголь почти вовсе ходить не может и поднимается с воды труднее и неохотнее еще, чем гагара. Мне даже не случалось видеть, во всю мою жизнь, летающего гоголя. Нос у него узенький, кругловатый, нисколько не подходящий к носам обыкновенных уток: конец верхней половинки его загнут книзу; голова небольшая, пропорциональная, шея длинная, но короче, чем у гагары, и не так неподвижно пряма; напротив, он очень гибко повертывает ею, пока не увидит вблизи человека; как же скоро заметит что-нибудь, угрожающее опасностью, то сейчас прибегает к своей особенной способности погружаться в воду так, что видна только одна узенькая полоска спины, колом торчащая шея и неподвижно устремленные на предмет опасности, до невероятности зоркие, красные глаза. В этом сторожевом положении гоголь удивителен! Как бы вы пристально на него ни смотрели, вы не заметите даже, когда и куда пропадет он! Не заметите также, когда и откуда вынырнет… до такой степени он ныряет быстро. Даже слово нырять не годится для выражения гоголиного нырянья: это просто исчезновение. Для полного понимания изумительного проворства гоголя довольно сказать, что когда употреблялись ружья с кремнями, то его нельзя было убить иначе, как врасплох. Вместе со стуком кремня об огниво, брызнувшими от стали искрами, воспламенением пороха на полке, что, конечно, совершается в одну секунду — исчезает шея и голова гоголя, и дробь ударяет в пустое место, в кружок воды, завертевшийся от мгновенного его погружения. Единственно волшебной быстроте своего нырянья обязан гоголь тем вниманием, которое оказывали ему молодые охотники в мое время, а может быть, и теперь оказывают, ибо мясо гоголиное хуже всех других уток-рыбалок, а за отличным его пухом охотник гоняться не станет. Видимая возможность убить утку, плавающую в меру и не улетающую от выстрелов, надежда на свое проворство и меткость прицела, уверенность в доброте любимого ружья, желание отличиться перед товарищами и, всего более, трудность, почти невозможность успеха раздражали самолюбие охотников и собирали иногда около гоголей, плавающих на небольшом пруде или озере, целое общество стрелков. Я помню в молодости моей много подобных случаев. Сколько крика, смеха, горячности, беганья и бесполезных выстрелов! По большей части случалось, что, не убив ни одного гоголя и расстреляв свои патроны, возвращались мы домой, чтоб на просторе досыта насмеяться друг над другом. Но иногда упорство преодолевало, и то единственно в таком случае, если на воде был захвачен один, много два гоголя, ибо тут надобно было каждому из них беспрестанно нырять. Бедная утка, наконец, выбивалась из сил, не могла держать своего тела глубоко погруженным в воде, начинала чаще выныривать, медленнее погружаться, и удачный выстрел доставлял победу которому-нибудь из охотников. — После рассказанного мною, казалось бы, должно заключить, что гоголи лишены способности летать, но некоторые, достойные вероятия, охотники уверяли меня, что видели быстро и высоко летающих гоголей. Притом откуда же они являются весною? Конечно, откуда-нибудь прилетают, хотя никто не видывал их прилета; они в начале мая вдруг оказываются на прудах и озерах, всегда в очень малом числе. Что же касается до того, что гоголь, окруженный охотниками, не поднимается с воды от их выстрелов, то, без сомнения, он чувствует опасность подъема по инстинкту, в чем и не ошибается: поднявшись с воды, он был бы убит в ту же минуту в лет несколькими выстрелами. Если же случится подойти к воде из-за чего-нибудь, так, чтобы не было видно охотника, то застрелить гоголя весьма легко: он плавает на воде высоко, шея его согнута, и он пристально смотрит вниз и сторожит маленьких рыбок. Тогда выстрел убивает его, как простую утку. Я пробовал стрелять гоголей тем способом, каким стреляют стоящую неглубоко в воде рыбу. Надобно принять в соображение угол падения дроби и метить не в самую рыбу, а несколько выше или ниже. Угол отражения дроби, всегда равный углу падения, будет зависеть от того, как высок берег, на котором стоит охотник, и как далека от него цель. Если берег совершенно плоск и расстояние не близко, одним словом, если угол падения будет очень остр, то дробь рикошетом взмоет вверх. Очевидно, что в этом случае надобно брать на цель ниже или ближе стоящей рыбы; если же берег высок и угол падения дроби будет выходить тупой, то дробь пойдет в воде под тем же углом вниз, следовательно брать на цель надобно несколько выше или дальше. Заметив, что гоголь сначала ныряет прямо вглубь, а не в сторону или вперед, как другие утки, и потом уже поворачивает куда ему надобно, я целил в нырнувшего гоголя, как в стоячую в воде рыбу, но успеха не было. Проворство его спасало. Острота зрения и слуха у гоголя изумительны: хотя бы он плыл спиною к охотнику, он видит, не оглядываясь, все его движения и слышит стук кремня об огниво. Много раз входило мне в голову: не устроен ли глаз у гоголя особенным образом? Но по наружности ничего особенного не заметно. Должно предполагать, что из ружей с пистонами можно бить гоголей успешнее, ибо нет искр от огнива, нет вспышки пороха, и выстрел пистонных ружей гораздо быстрее. Поверить это предположение на опыте мне не удалось, но впоследствии я слышал, что мое мнение совершенно оправдалось на деле. Я не нахаживал гоголиных гнезд, но нет никакого сомнения, что гоголь устраивает их в камышах над водою, как гагары, лысухи и, вероятно, другие породы уток-рыбалок, потому что гоголь более всех их лишен способности ходить. Гоголиные выводки я встречал часто и один раз видел, как гоголь-утка везла на своей спине крошечных гоголят, покрытых сизым пухом, и плыла с ними очень быстро. Я слыхал об этом прежде от охотников, но, признаюсь, не вполне верил. Невольно представляется вопрос: отчего бы и другим уткам не делать того же? Отчего именно гоголиной утке нужна такая особенность, тогда как гоголята проворнее всех других утят? Ко всему мною сказанному надобно прибавить, что гоголи встречаются всегда в небольшом числе и не везде, а только на водах довольно глубоких и рыбных и что различия утки от селезня в цвете перьев я никогда не замечал. Гоголи пропадают осенью очень рано. Мясо их нестерпимо воняет рыбой и на вкус горько и противно. Жирных гоголей я не видывал. В заключение повторю, что описанная мною утка есть настоящий гоголь со всеми его замечательными особенностями, а называемые иногда большого и малого рода гоголями утки-рыбалки — не что иное, как гагары. 4. ЛЫСУХА, ИЛИ ЛЫСЕНА (водяная курица) 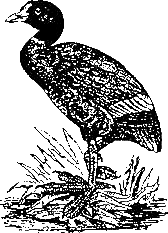 Гоголем заключилось отделение уток. Лысуха, или лысена, по устройству своего тела, особенно шеи и головы, по беловатому, острому, совершенно куриному носу, даже по своему неровному плаванью и непроворному нырянью, несмотря на постоянное пребывание на мелкой воде, отличается от утиных пород и по справедливости может назваться водяною курицею. Имя лысухи, или лысены, без сомнения, дано ей потому, что у ней на лбу лежит как будто припаянная белая, гладкая бляха, весьма похожая на большую, очищенную от шелухи миндалину, отчего голова издали кажется лысою. Эта белая, будто костяная, бляха есть не что иное, как мясистый нарост, покрытый крепкою, скорлупообразною кожею. Все лысухи без исключения, и самцы и самки (между которыми различия я никогда не замечал), имеют эту бляху, которая лоснится на солнце. Наружною величиной лысена в перьях не меньше средней утки, но собственно телом — немного больше чирка; цветом издали вся черная, а вблизи черновато-сизая или дымчатая; ноги хотя торчат в заду, как у нырка, но все не так, как у гагар и гоголя; она может на них опираться больше других, настоящих уток-рыбалок, и даже может ходить. На ногах у лысены, повыше первого сгиба, из-под мягких сизых перьев лежат желто-зеленые поперечные полосы в полпальца шириною; зеленоватый цвет виден даже на последнем сгибе ног до самой лапы; он проглядывает сквозь свинцовый цвет, общий ногам всех лысен; лапы их на солнце отливают грязно-перламутровым глянцем; перепонка между пальцами толстая, вырезанная городками, отчего они и не могут так ловко плавать, как другие утки. Все ноги их исчерчены правильными беловатыми линиями, поперечными и продольными, образующими маленькие квадратики и городки; нижняя сторона лап темно-свинцовая; хвост самый короткий, темный. Надобно заметить, что одно только устройство ног заставляет причислить лысуху к породе уток-рыбалок; во всем остальном, кроме постоянного пребывания на воде, она не сходна с ними. Летают лысухи плохо и поднимаются только в крайности: завидя какую-нибудь опасность, они, покрикивая особенным образом, как будто стоная или хныкая, торопливо прячутся в камыш, иногда даже пускаются в бег, не отделяясь от воды и хлопая по ней крыльями, как молодые утята; то же делают, когда хотят подняться с воды, покуда не разлетятся и не примут обыкновенного положения летящей птицы. Весной появляются довольно поздно и пропадают рано осенью: прилета и отлета их стаями и даже парами я не замечал. Обыкновенное местопребывание лысух — стоячие воды, пруды и озера с камышами; они любят держаться на мелкой воде, даже у самых берегов, потому что их пища преимущественно состоит из насекомых, водяных трав и даже тины, для чего нужно им доставать дно. Впрочем, питаются и рыбой, если она попадется, и всегда ею пахнут, хотя гораздо менее уток-рыбалок. К осени лысены бывают очень жирны и были бы довольно вкусны, если б не рыбный запах, который, однако, значительно уменьшается, если содрать с лысены кожу и потом уже ее жарить. Я уже сказал, что нашел однажды пловучее гнездо гагары; точно такого же устройства попалось мне гнездо и лысухи. Оно держалось довольно высоко на воде, мало в нее погружаясь. Лысена плавала кругом. Гнездо было свито из сухой осоки и особенной породы мягкого, толстого, также сухого камыша. Одна сторона гнезда, по которой взлезала и слезала лысена, была обмята и пониже других. Дно гнезда внутри и круглые боковые стенки почти доверху были вымазаны и даже промазаны очень гладко, искусно и прочно собственным калом лысухи, отвердевшим, как каменная штукатурка;[30] на дне лежала настилка из черных перьев и темного пуха, выщипанного матерью из своей хлупи, и, наконец, девять яиц (немножко поменьше куриных) прекрасного темно-сизого, слегка зеленоватого цвета с глянцем, испещренных белыми крапинками. Очевидно было, что гнездо прикреплялось к камышу (тем же самым калом), и очень крепко, потому что верхушки двух перерванных камышин и одна выдернутая или перегнившая у корня, плотно приклеенные к боку гнезда, плавали вместе с ним по воде, из чего можно заключить, что когда гнездо не было оторвано от камыша, то воды не касалось. Я собирал тогда яйца всех птиц и без памяти обрадовался такой редкой находке. Я взял бережно гнездо, поставил его в лодку и поспешно поплыл домой: лысуха, покрикивая, или, лучше сказать, похныкивая, провожала меня чрез весь пруд, почти до самого мельничного кауза.[31] Маленькие цыплята лысены бывают покрыты почти черным пухом. Мать не показывает к детям такой сильной горячности, как добрые утки не-рыбалки: спрятав цыплят, она не бросается на глаза охотнику, жертвуя собою, чтобы только отвесть его в другую сторону, а прячется вместе с детьми, что гораздо и разумнее. Охотники редко без особенных причин стреляют лысух, и потому они очень смирны; мясо их незавидного вкуса, даже и черный пух не так длинен и густ, как пух уток-рыбалок. Впрочем, он им не так нужен, потому что лысухи много времени проводят сидя и даже ходя по плоским берегам пруда или озера, а не беспрестанно плавают по воде. Чуваши, мордва и татары охотно едят лысух, если они им попадутся, и мне случалось дарить их этим лакомством. В местах, где я живал в Оренбургской губернии, лысены водятся во множестве и составляют какую-то необходимую принадлежность прудов и озер. Было бы странно подойти или подъехать к камышистому пруду и не увидеть на нем порывисто двигающихся в разных направлениях черных кочек с белыми костяными бляхами, чем кажутся издали лысены, и не услышать их тихого, грустно хныкающего голоса: картина была бы неполна. Примечания:Note2 То есть не гоняется за птицей и совершенно послушна. Note3 Некоторые охотники находят это вредным; они говорят, что от жесткой поноски собака будет мять дичь; я сомневаюсь в этом. Note20 Лебедь и гусь так всем известны, что считаем ненужными их политипажи. Note21 Стариками называются в гусиной выводке старый гусак и гусыня. Note22 Водяная птица в этом отношении совершенно противоположна некоторым породам степной дичи; перья в крыльях молодых тетеревов, куропаток и перепелок вырастают прежде всего, и они еще в пушку могут перелетывать, а у всей водяной дичи, напротив, перья в крыльях вырастают последние, так что даже безобразно видеть на выросшем и оперившемся теле молодого гуся или утки голые папоротки с синими пеньками. Note23 Просиженный зоб уже пуст. Это значит, что пища сварилась и опустилась в кишки. Note24 То есть совокупляются. Note25 Самарской губернии, в Ставропольском уезде. Note26 Некоторые охотники утверждают, что свиязь и чирки летают в хлебные поля. Note27 Между некоторыми охотниками существует мнение, что чирята никогда рыбы не едят, никогда, следовательно, не могут ею пахнуть, но оно не всегда, или, лучше сказать, не везде справедливо. Note28 Недавно получил я известие от одного достоверного охотника, что он встречал выводки черни в Оренбургской губернии. Я могу объяснить свою ошибку только тем, что смешивал их с выводками белобрюшки или нырка: утки их очень сходны. Note29 Крестьяне называют иногда гагарой лысуху. Note30 Что эта обмазка или штукатурка есть не что иное, как помет лысены — убедиться нетрудно, сличив обмазку с свежим пометом, которого всегда бывает довольно на верху гнезда. Note31 Кауз — дверцы, в которые течет вода по трубам на водяные колеса. Около Москвы называют его дворец (дверец?). |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |
||||
|
|
||||
